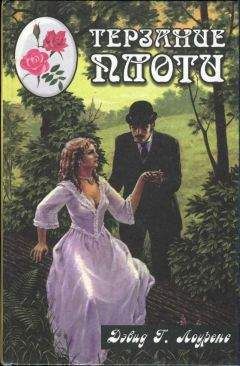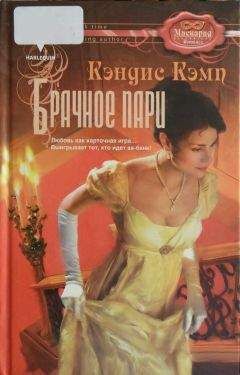Дэвид Лоуренс - Любовник леди Чаттерли
Я спросил его, сможет ли он дальше охранять лес как положено. Он ответил, что, по его мнению, он своими обязанностями не пренебрегает. Я сказал ему, эта женщина нарушает право владения, что не очень приятно. Он ответил, что у него нет полномочий арестовать ее. Тогда я намекнул на эту скандальную историю. «А-а, — сказал он, — баловались бы побольше со своими бабами, не стали бы перетряхивать чужую постель». Он сказал это с ноткой горечи: без сомнения, в его словах есть доля правды. Но вместе с тем, они прозвучали непочтительно и неделикатно. Я ему и на это намекнул. В ответ отчетливо брякнула жестянка: «Не в вашем положении, сэр Клиффорд, — сказал он, — корить меня за то, что между ног у меня кое-что есть».
И подобные вещи он говорит всем и каждому, без разбора, что отнюдь не располагает к нему людей. И пастор, и Линли, и Берроуз, все в один голос говорят — с ним надо расстаться.
Я спросил его, верно ли, что он принимал в коттедже замужних женщин, на что он ответил: «А вам какое дело до этого, сэр Клиффорд?» «Я не хотел бы, — ответил я, — чтобы и моего поместья коснулась порча нравов». «На чужой роток не набросишь платок, а тем более на роток тивершолльских красоток», — сказал он. Я потребовал все-таки, чтобы он сказал мне, честно ли он вел себя, живя на моей земле, и в ответ получил: «А почему бы вам не состряпать сплетню обо мне и моей суке Флосси? И это неплохо на худой конец». Словом, по части наглости с нашим лесничим тягаться трудно.
Тогда я спросил его, легко ли ему будет найти другую работу. На что он ответил: «Если вы хотите этим сказать, что отказываете мне от места, то не страдайте, мне это проще пареной репы». Так что, видишь, все разрешилось прекрасно, и в конце той недели он отсюда уедет. А пока начал посвящать в тайны своей нехитрой профессии младшего егеря Джо Чемберса. Я сказал, что уплачу ему при расчете еще одно месячное жалованье. Он мне ответил, что ему мои деньги не нужны: он не хочет облегчать мне угрызения совести. Я спросил его, что это значит. «Вы не должны мне ни одного пенни сверх заработанного, — сказал он. — А чужих денег я, разумеется, не беру. Если вы видите, что у меня сзади торчит рубаха, скажите прямо, а не ходите вокруг да около».
На этом пока все кончилось. Женщина куда-то исчезла; мы не знаем куда; если она сунет свой нос в Тивершолл, ее арестуют. А она, я слыхал, до смерти боится полиции, потому что знает ее слишком хорошо. Меллорс уезжает от нас в ту субботу, и все снова вернется на круги своя…
А пока, дорогая Конни, если тебе нравится в Венеции или в Швейцарии, побудь там до начала августа, я буду спокоен, что ты далеко от всей этой грязи. К концу месяца, я надеюсь, все это уже быльем порастет.
Так что, видишь, мы тут глубоководные чудища, а когда омар шлепает по илу, он поднимает муть, которая может забрызгать и невинного. Приходится принимать это философски».
Раздражение Клиффорда, так явственно прозвучавшее в письме, отсутствие сочувствия кому-либо были очень неприятны Конни, но его послание она поняла гораздо лучше, чем полученное вскоре письмо от Меллорса. Вот что он писал:
«Тайное стало явным, кошка выскочила из мешка, а с ней и котята. Ты уже знаешь, что моя жена Берта вернулась в мои любящие объятия и поселилась у меня в доме, где, выражаясь вульгарно, учуяла крысу в виде пузырька Кота. Другую улику она нашла не сразу, а через несколько дней, когда подняла вой по сожженной фотографии. Она нашла в пустой спальне стекло и планку от нее. К несчастью, на планке кто-то нацарапал какую-то виньетку и инициалы К.С.Р. Тогда эти буквы ничего ей не сказали, но вскоре она вломилась в сторожку, нашла там твою книгу — автобиографию актрисы Джудит и на первой странице увидела твое имя — Констанция Стюарт Рид. После этого она несколько дней на каждом перекрестке кричала, что моя любовница не кто-нибудь, а сама леди Чаттерли. Слухи скоро дошли до пастора, мистера Берроуза и самого сэра Клиффорда. Они возбудили дело против моей верной женушки, которая в тот же день испарилась, поскольку всегда смертельно боялась полиции.
Сэр Клиффорд вызвал меня к себе, я и пошел. Он говорил обиняками, но чувствовалось, что он сильно раздражен. Он спросил между прочим, известно ли мне, что затронута честь ее милости. Я ответил, ему, что никогда не слушаю сплетен и что мне странно слышать эту сплетню из его уст. Он сказал, что это величайшее оскорбление, а я сказал ему, что у меня в моечной на календаре висит королева Мария, стало быть, и она соучастница моих грехов. Но он не оценил моего юмора. Он был так любезен, что назвал меня подонком, разгуливающим по его лесу с расстегнутой ширинкой на бриджах, я не остался в долгу и так же любезно заметил, что ему-то ее расстегивать не для чего. В результате он меня уволил, я уезжаю в субботу на той неделе. «И место его не будет уже знать его»[26].
Я поеду в Лондон и либо остановлюсь у моей старой хозяйки миссис Инджер, Кобург-сквер, 17, либо она подыщет мне комнату.
Как же это я мог забыть: грехи твои отыщут тебя, если ты женат и имя твоей жены Берта…»
И ни слова о ней. Конни возмутилась. Он мог бы сказать хоть несколько утешительных, ободряющих слов. Но тут же объяснила себе — он дает ей полную свободу, она вольна вернуться обратно в Рагби к Клиффорду. Самая мысль об этом была ей ненавистна. Что за глупое письмо он написал, зачем такая бравада. Он должен был сказать Клиффорду: «Да, она моя любовница, моя госпожа, и я горжусь этим». Смелости не хватило.
Так, значит, ее имя склоняют вместе с его в Тивершолле. Мало приятного. Ну ничего, все это скоро, очень скоро забудется.
Она злилась сложной и запутанной злостью, которая отбивала у нее всякую охоту действовать. Она не знала, что делать, что говорить, и она ничего не делала и ничего не говорила. Продолжала жить в Венеции как жила, уплывала в гондоле с Дунканом Форбсом, купалась, лишь бы летело время. Дункан, который был отчаянно влюблен в нее десять лет назад, теперь опять влюбился. Но она сказала ему, что хочет от мужчин одного — пусть они оставят ее в покое.
И Дункан оставил ее в покое и был очень доволен, что сумел совладать с собой. И все же он предложил ей свою любовь, нежную и странную. Он просто хотел постоянно быть рядом с ней.
— Ты когда-нибудь задумывалась, — сказал он однажды, — как мало на свете людей, которых между собой что-то связывает? Погляди на Даниеле! Он красив, как сын солнца. А каким одиноким выглядит при всей своей красоте. И ведь, держу пари, у него есть жена, дети, и он, наверняка, не собирается уходить от них.
— А ты спроси у него, — сказала Конни.
Дункан спросил. Оказалось, Даниеле действительно женат, у него двое детей, оба мальчики, семи и девяти лет. Но, отвечая, он не проявил никаких чувств.
— Может, именно тот, кто по виду один как перст, и способен на настоящую преданность своей подруге, — заметила Конни. — А все остальные как липучки. Легко приклеиваются к кому попало. Такой Джованни. — И подумав, сказала себе: «Такой и ты, Дункан».
18
В конце концов Конни надо было решиться на что-нибудь. Пожалуй, она покинет Венецию в ближайшую субботу, в тот день, когда он уедет из Рагби, т.е. через шесть дней. Значит, в Лондоне она будет в тот понедельник, и они увидятся. Она написала ему на его лондонский адрес, просила ответить ей в гостиницу «Хартленд» и зайти туда в понедельник в семь часов вечера.
Она испытывала непонятную запутанную злость, все остальные чувства пребывали в оцепенении. Она ни с кем ничем не делилась, даже с Хильдой, и Хильда, обиженная ее непроницаемым молчанием, близко сошлась с одной голландкой; Конни ненавидела болтливую женскую дружбу, а Хильда к тому же любила все разложить по полочкам.
Сэр Малькольм решил ехать с Конни, а Дункан остался с Хильдой, чтобы ей не пришлось ехать обратно одной. Стареющий художник любил путешествовать с комфортом: он заказал купе в Восточном экспрессе, не слушая Конни, которая терпеть не могла эти шикарные поезда, превратившиеся чуть не в бордели. Зато в Париж такой поезд домчит за несколько часов.
Сэр Малькольм всегда возвращался домой с унынием в сердце — так повелось еще со времени первой жены. Но дома ожидался большой прием по случаю охоты на куропаток, и он хотел вернуться загодя. Конни, загорелая и красивая, сидела молча, не замечая пробегающих за окном красот.
— Немножко грустно возвращаться в Рагби, — сказал отец, заметив ее тоскливое выражение.
— Еще не знаю, вернусь ли я в Рагби, — сказала она с пугающей резкостью, глядя в его глаза своими синими расширившимися глазами. В его синих выпуклых глазах мелькнул испуг, как у человека, чья совесть не совсем спокойна.
— Что это вдруг? — спросил он.
— У меня будет ребенок.
Она до сих пор не говорила об этом ни одной живой душе. А сказав, как бы переступила какой-то рубеж.
— Откуда ты знаешь?
— Оттуда и знаю, — улыбнулась Конни.