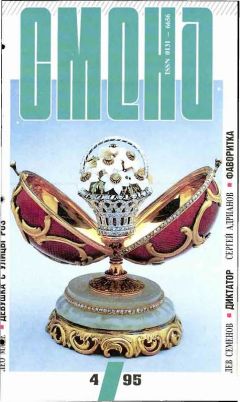Осип Сенковский - Игра в карты по–русски
Но эти слова достигли до почтенной матушки Ивана Богдановича, очень набожной старушки, которая имела обыкновение по целым дням не говорить ни слова, не вставать с места и прилежно заниматься вывязыванием на длинных спицах фуфаек, колпаков и других произведений изящного искусства. На этот раз отворились запекшиеся уста ее, и она, прерывающимся от непривычки голосом, произнесла:
— Иван Богданович! А! Иван Богданович! что ты… это?.. ведь это… это… это не водится… в такой день… в карты… Иван Богданович!.. а!.. Иван Богданович! что ты… что ты… в эдакой день… скоро заутреня… что ты…
Я и забыл сказать, что Иван Богданович, тихий и смиренный в продолжение целого дня, делался львом за картами; зеленый стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин треножник, — духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям; потребность раздражения; то таинственное чувство, которое заставляет иных совершать преступления, других изнурять свою душу мучительною любовию, третьих прибегать к опиуму, — в организме Ивана Богдановича образовалось под видом страсти к бостону; минуты за бостоном были сильными минутами в жизни Ивана Богдановича; в эти минуты сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то самозабвении.
После этого немудрено, если Иван Богданович почти не слыхал или не хотел слушать слов старушки; к тому же в эту минуту у него на руках были десять в сюрах, — неслыханное дело в четверном бостоне!
Закрыв десятую взятку, Иван Богданович отдохнул от сильного напряжения и проговорил:
— Не беспокойтесь, матушка, еще до заутрени далеко; мы люди деловые, нам нельзя разбирать времени, нам и Бог простит — мы же тотчас и кончим.
Между тем на зеленом столе ремиз цепляется за ремизом; пулька растет горою; приходят игры небывалые, такие игры, о которых долго сохраняется память в изустных преданиях бостонной летописи; игра была во всем пылу, во всей красе, во всем интересе, когда раздался первый выстрел из пушки; игроки не слыхали его; они не видали и нового появления матушки Ивана Богдановича, которая, истощив всё свое красноречие, молча покачала головою и наконец ушла из дома, чтобы приискать себе в церкви место попокойнее.
Вот другой выстрел — а они всё играют: ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, и приходят игры небывалые.
Вот и третий, игроки вздрогнули, хотят приподняться, — но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты, тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери комнаты сами собою прихлопнулись.
Вот на улице звон колокольный, всё в движении, говорят прохожие, стучат экипажи, а игроки всё играют, и ремиз цепляется за ремизом.
«Пора б кончить!» — хотел было сказать один из гостей, но язык его не послушался, как-то странно перевернулся и, сбитый с толку, произнес:
— Ах! что может сравниться с удовольствием играть в бостон в Страстную субботу.
«Конечно! — хотел отвечать ему другой, — да что подумают о нас домашние?» — но и его язык также не послушался, а произнес:
— Пусть домашние говорят что хотят, нам здесь гораздо веселее.
С удивлением слушают они друг друга, хотят противоречить, но голова их сама нагибается в знак согласия.
Вот отошла заутреня, отошла и обедня; добрые люди, — а с ними матушка Ивана Богдановича, — в веселых мечтах сладко разговеться залегли в постелю; другие примеривают мундир, справляются с адрес-календарем, выправляют визитные реестры. Вот уже рассвело, на улицах чокаются, из карет выглядывает золотое шитье, треугольные шляпы торчат на фризовых и камлотных шинелях, курьеры навеселе шатаются от дверей к дверям, суют карточки в руки швейцаров и половину сеют на улице, мальчики играют в биток и катают яйца.
Но в комнате игроков всё еще ночь; всё еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно: усталые руки тасуют карты, язык выговаривает «шесть» и «восемь», ремиз цепляется за ремизом, пулька растет, приходят игры небывалые.
Наконец догадался один из игроков и, собрав силы, задул свечки; в одно мгновение они загорелись черным пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук; дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали, — и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников; и началась игра, игра адская, которая никогда не приходила в голову сочинителя «Открытых таинств картежной игры».
Между тем короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам.
Не знаю, долго ли дамы хлопали об стол несчастных Иванов Богдановичей, загибали на них углы, гнули их в пароль, в досаде кусали зубами и бросали на пол…
Когда матушка Ивана Богдановича, тщетно ожидавшая его к обеду, узнала, что он никуда не выезжал, и вошла к нему в комнату, — он и его товарищи, измученные, спали мертвым сном: кто на столе, кто под столом, кто на стуле…
И по канцеляриям долго дивились: отчего Ивану Богдановичу не удалось в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником?
Осип Сенковский
Записки домового
……………………………………….
……………………………………….
…гомеопатически. Они удалились оба в другую комнату. Моя жена и сестры пошли за ними; их прекрасные лица были подернуты тем туманным беспокойством, которое составляется из движущихся стихий любви, отчаяния и надежды и носится зловещим облаком над будущностью дорогих нашему сердцу, когда в ней скрывается опасность. Вскоре услышал я глухие вопли и вздохи, которые томно отражались в моей спальне, проникая с трудом сквозь сухие и беззвучные фибры досок затворенной двери. Следственно, нет надежды! Я должен умереть аллопатически и гомеопатически! Умереть по двум методам! вдвойне умереть!.. от бесконечно великих количеств лекарства и от бесконечно малых! Это ужасно! Я думаю, что с тех пор, как люди умирают от медицины, никто еще не испытывал такой печальной участи. Уверенность в скором выздоровлении, которая в чахоточном усиливается обыкновенно по мере ослабления сил, поколебалась во мне в первый раз с того времени, как лютая болезнь приковала меня к постели; но к собственному моему удивлению, страшная мысль о необходимости расстаться с жизнию в то самое мгновение, когда дни мои так весело озарились лучами восходящего счастья, не произвела большого потрясения: она ударилась в мои чувства так глухо, так невнятно, как ударяет молоточек клавиша в опущенную струну, которая только зажужжит с неприятным бряцанием, без звона и эха, и опять погрузится в немоту. Я слышал удаляющиеся шаги докторов, которых мое семейство провожало до лестницы, чтобы исторгнуть у них какое-нибудь признание, благоприятное для страдальца; но обе методы были непоколебимы и ушли, кланяясь очень учтиво; когда стук двери дал мне знать об их уходе, мне даже стало легче и веселее: мне показалось, что ею затворились все хлопоты жизни, что всё уже кончено, что я уж не существую. Страх смерти обитает не в душе человека, но в его физической части; он действует только до тех пор, пока преобладают материальные силы, подчиняя своим пользам духовное начало бытия; одно тело боится смерти, потому что смерть грозит ему разрушением, и как скоро болезнь и изнеможение отнимут у материи то страшное самовластие, которое люди называют голосом природы, и дух не встречает в нем более противоречия, разрушение тела делается для вас незначащим, посторонним предметом. Разобщенные колеса испорченной машины перестали издавать в моей груди тот ржавый болезненный скрып, которым выражается страдание больного; я впал в какую-то отрадную слабость, и сколько прежде страшился смерти и не мог подумать об ней без трепета, столько теперь стал к ней равнодушен. Эта внезапная перемена произошла не от ухода моих докторов, которых мудрости я никогда не верил: быстрый упадок сил, или, точнее, жара крови, один был причиною этой каменной беззаботности, и я могу сравнить тогдашнее мое ощущение с тем, какое испытывает человек, еще нежащийся в теплой ванне и думающий, что вода уже простывает, что уже пора выйти из нее на воздух и одеваться. Одиночество, в котором я был оставлен, одно было для меня несколько тягостно: я чувствовал как бы нужду в руке, которая бы помогла мне встать из охладевающей купальни бытия и подала платье; я ждал, но уже без нетерпения, возврата жены и сестер, чтоб проститься с ними, чтобы сказать, что я ухожу, что они не должны печалиться, что путь, который мне предстоит, нисколько не опасен, что это только перемена квартиры… Пульс уже не бился с некоторого времени: кровь, еще теплая, уже не кружила, но стояла в жилах как розовый спирт в фаренгейтовых трубках, понижаясь отвсюду к сердцу подобно термометру, вынесенному на прохладный воздух, и с последним, чуть-чуть приметным ударом сердца водворилось во всем теле удивительное спокойствие. То было восхитительное безветрие после долгой бури. Сердце, эти единственные часы человеческой жизни, остановилось, как задержанный маятник, и время вдруг перестало для меня измеряться; я жил уже за пределами времени и в первый раз ясно понял вечность, о которой люди, что бы они ни говорили, догадываются не умом, а только инстинктом. Вечность! это — простое отсутствие всякой меры. Состояние человека невыразимо с той минуты, как плоть отказывается от дальнейшей работы на его существо и предоставляет здание ведению невещественного начала, духа, или, как его зовут часто, разума. Разум светистою волною разливается тогда по всему телу и выходит из него во все поры в виде радужного, нематериального испарения; оно образует около него эфирное облако: тело как бы завешано в атмосфере своего духа. Я тут впервые увидел мысль вне человека. Не глядя, видел я, как в зеркале, весь состав своего животного строения, весь этот удивительный механизм миллиона трубок, пружин, связей, рычагов и колес, таких тонких, так искусно сцепленных и на ту пору стоявших в бездействии; я мог бы в двух словах объяснить физиологам, которые, клянусь вам, не более вот этой печи смыслят про образ действования жизни, всю эту таинственную гидростатику многочисленных жидкостей, текучих и летучих, называемую «жизнию» и производящую различные отправления тела, от простого движения ног до трудов памяти и воображения. Никакая паровая мельница не может быть простее этого! И это в самом деле паровая мельница. Они узнают ее при смерти, а те дивные мгновения, которые называют они последними проблесками ума и которые суть только начало великолепнейшего из явлений в теле — отделения вещества от духа, материи от не-материи, того от не-того, да от нет, которых взаимное сочетание и вместе с тем противоположное стремление образует одно отдельное целое, феномен лица и его жизни, отрывок сложной машины времени, состоящей из соединения всех отдельных жизней… Дверь тихонько отворилась, и я увидел через верх передка моей кровати белое чело жены, осененное черными ее волосами в печальном беспорядке, который придавал ему особенную прелесть. Я хотел позвать ее к себе, но голос не вышел из груди, и слова: «Друг мой» — вылетели из нее без звука, как бы произнесенные в совершенной пустоте; они потонули в воздухе у самых уст моих, даже не пошевелив его, не произведши в нем тех кругов, которые в таком множестве и так быстро выходят из каждого слова, упавшего на его поверхность, дрожат, расширяются, несутся вдаль и исписывают прозрачное пространство звучащими дугами. Это был уже образ того гробового беззвучия, которое начинается за пределами вещества. Я понял, что меня там ожидало… Тихими шагами, едва касаясь земли маленькой, дрожащей ножкою, подходила ко мне юная супруга. Ее бледное лицо, заплаканные глаза, руки, сложенные на груди, медленные движения и измятое платье сливались в стройную картину столь глубокого несчастия, что гранит застонал бы от подобного зрелища. Она села против меня на стуле, и ее руки, судорожно сплетенные пальцами, упали на колени, и ее глаза, иссушенные отчаянием, устремились на мое лицо с несказанным выражением любви и горести. Я видел в них прощание… Бедная женщина! ты должна страдать одна. О, зачем я не могу теперь разделить твоей печали, как прежде разделял твое невинное блаженство! Сердце это уже не движется! Эта кровь уже не волнуется!.. Твоя печаль только отражается на ее тиши, как траур туч на зеркальном лице спящего океана, не смущая оцепеневших пучин страсти. Эта кровь, зажигавшаяся пламенем от одного твоего прикосновения — в горячие волны которой ты так часто выливала всю сладость твоего существа — которая неслась вся к сердцу, как скоро твой образ наполнял его счастием, теперь, когда тебя раздирают пополам, когда живую зарывают в землю, эта кровь даже не шелохнется! Я делал страшные усилия, чтобы возбудить в себе печаль, и никак не мог добиться до этого чувства, которое было бы тогда для меня благодеянием. Страсти мои, казалось, сзерновались около сердца и покрыли его своими холодными кристаллами… Весь мой дух скопился около юной супруги; я окружил еще недавно обожаемую женщину своей душою, которая лелеяла ее в своих объятиях, проникала во всё ее чистое и красивое тело и смешивалась внутри его с ее духом. Это не была любовь, потому что я уже не мог любить, но нечто торжественнее любви: милое женское существо, с поникнутою головкою и заломанными руками, сидело в облаке неземного света, который дивным образом усиливал ее прелести и придавал ей почти небесную красу. То было обоготворение любящей женщины. О, если б грубые земные чувства дозволили ей видеть себя в эту минуту!.. Я собрал последние силы, чтобы высвободить руку из-под одеяла и протянуть к ней. С какою страстию схватила она своими мягкими теплыми ладонями эту руку, желтую, сухую, оглоданную хищной болезнию и уже холодную! Никогда в безумном упоении сладострастного восторга не целовала она ее с такой жадностью и таким жаром. Она зарыдала. Слезы брызнули из ее глаз и потопили руку, пригвозженную поцелуями к ее устам. Чистее этого умовения, я думаю, нет в природе: оно сильно смыть даже кровь невинного с руки убийцы… Лицо ее окрасилось румянцем; не выпуская моей руки, она подняла на меня свои большие мокрые глаза и, казалось, умоляла ими, чтобы я остался с ней на земле; и я никогда, даже в день нашего брака, не видал ее прелестнейшею, чем в это мгновение. Две мои молоденькие сестры, вошед неприметно не знаю когда, стояли по другую сторону кровати и плакали: их лица, в которых огонь плача боролся с бледностью и усталостью от бессонных ночей, проведенных подле больного брата, были еще красивее обыкновенного. Заходящее солнце удивительным образом освещало их и всю комнату. Между тем тело мое быстро остывало по всем оконечностям; руки и ноги, совсем оледенелые, лежали подле меня как неподвижные глыбы, не принадлежащие к моему составу: там уже господствовала смерть; жизнь еще тлела в желудке, груди и голове, но и тут уже гробовой мороз, подвигаясь с низу и боков, пожирал одни части тела за другими. Отделение духа от вещества происходило с большой силой и в отдаленнейших членах уже довершалось: там, где дух совсем оставил тленное здание, частицы тела, лишенные своей волшебной связи, тотчас начинали бродить, и наступало разложение. В сильном движении горести моя жена, падая на колени, дернула меня за руки, нехотя, но довольно крепко. Сердце мое закачалось — тихо, без биения, — и легкая теплота неожиданно согрела пустую грудь. Я воспользовался минутным возвратом жизни, чтобы сказать доброй подруге: «Прощай, мой друг!.. Я был счастлив, очень счастлив с тобою…» Я хотел еще возблагодарить сестер за нежную привязанность, но мои уста внезапно сомкнулись, и я никак не мог раздвинуть челюстей. Сердце опять остановилось. Одно только чувство, или что-то похожее на чувство, пробудилось во мне при этом потрясении: то было сожаление. Видя эту прелестную женщину, с которою я надеялся дожить на земле до старости — вы сами знаете, как хороша моя Лиза! — этих милых девиц, которые выросли и расцвели на моих руках, этот солнечный свет, который лился из окна на стену розовыми и золотыми струями, мне стало жаль красоты и солнечного света. Расстаться с ними навсегда, никогда их не видеть, перейти в неизвестный мир, где они не нужны или, может статься, не существуют, — о, эта мысль способна отравить горечью всю сладость смертельного бесстрастия! Всё остальное в мире, право, не стоит никакого сожаления и не возбуждает его в умирающем. Но этот чудесный солнечный свет!.. Но эта красота, чудеснее самого солнца и света!.. Их одних хотел бы я унести с собою в могилу. Я уверен, что солнечное сияние создано только для того, чтобы можно было видеть красоту… Однако ж это чувство, уже последнее, было непродолжительно: жизнь качающимися кругами, которые постепенно уменьшались, переносилась в голову; я начинал уже ощущать усыпление, которое исподволь охватывало всего меня. Охладелые части тела казались уже спящими; те, которые были еще теплы, повергались в сильную дремоту. Свет померкал в моих глазах: пленительное лицо жены сперва окружилось в них венцом призматических цветов, потом стало редеть, рассеиваться, исчезало и, наконец, исчезло в темноте, прорезываемой волшебными огнями. Сетчатая ткань глаза вдруг окаменела, в ушах зазвенело, слух пресекся тоже. Я почувствовал род весьма приятного опьянения, и невыразимая сладость забвения скоро поглотила всё мое существо. Запертая обмершими чувствами мысль стала выражать последние свои движения ясными сновидениями, которые были чрезвычайно разнообразны и игривы, как в начале обыкновенного сна. Остаток воли боролся еще некоторое время с этим непреодолимым позывом на сон, и в промежутки пробуждения я чувствовал, что круги сосредоточивающейся жизни, о которых говорил вам, избрав своим центром голову и суживаясь постепенно, сбегаются в мозгу, качаются уже около одной светлой точки, наконец, вошли все в эту точку; в ней заключилось и всё мое самоощущение, которое поминутно утопало в превозмогающей дремоте. Мне снилось, будто моя жена — оно и в самом деле так было — бросилась на меня с рыданием и начала целовать мои ноги и колена. Мне хотелось закричать ей: «Не там, друг мой!.. Там я уже не существую!.. сюда! сюда! разбей мою голову и вдохни в себя эту последнюю искру жизни, которая еще сверкает в мозгу и скоро погаснет…» Но слова, произносимые в мысли, не находили для себя звуков, что нередко испытывается и во сне: всё тело уже спало, то есть было мертво, и жила только одна голова, но и та жила полужизнию — дремотою. Сновидения, чрезвычайно странные и всё более несвязные, текли с необыкновенною скоростью, и так как каждое из них, продолжаясь не более одного мгновения, кажется засыпающему действием, растянутым на большой промежуток времени, то я в эти пять минут, пока не уснул, прожил, по крайней мере, два или три месяца. Странный обман тела! Можно было бы написать целый том историй, собрав все чудные фантазии, которые наплодились в моей голове в короткое время этого засыпания. Наконец, сон преодолел меня — меня, то есть мой мозг, всё, что еще от меня осталось в живых, — и я уснул самым крепким и роскошным сном, какого никогда еще не испытывал в жизни. Это была смерть. Вот и вся история. Я умер, и меня похоронили; но должен признаться, что был набитый дурак при жизни, когда боялся того, что ничуть не страшнее обыкновенного сна и, может, еще слаще его; сон вечерний приятен только тем, что это отдых после трудов одного дня, а умирая, вы засыпаете от изнеможения тела в течение всего вашего земного существования, со всеми его изнурительными удовольствиями, страданиями и работами, и потому засыпаете еще лучше. Последние минуты этого оцепенения похожи на то, что ощущают турки, приняв фан опиума… Вы вздыхаете?