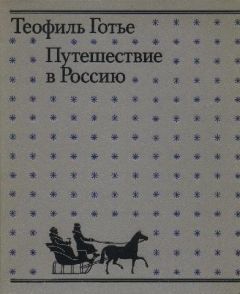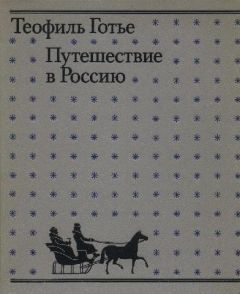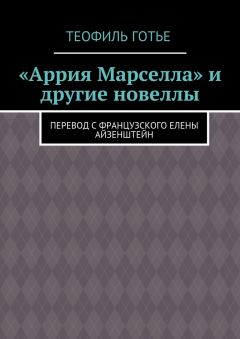Теофиль Готье - Мадемуазель де Мопен
— Вы правы.
Потом она скользнула к стенному шкафчику, достала из него две-три бутылки с ликерами и несколько тарелок с вареньями и пирожными, выставила все это на маленький круглый столик и уселась рядом со мной на довольно узкую кушетку, так что мне, чтобы не тесниться, пришлось закинуть руку ей за талию. Поскольку у нее были свободны руки, а у меня только левая, она сама наполнила мой бокал и положила фрукты и сласти мне на тарелку; вскоре, видя, что мне не совсем удобно, она даже сказала: «Полноте, не трудитесь, я буду кормить вас сама, дитя, а то вы не умеете». И стала класть мне в рот кусочек за кусочком быстрее, чем я успевала проглатывать, заталкивая их своими красивыми пальцами, точь-в-точь как кладут корм в клюв птенцу, и при этом заливалась хохотом. Я не удержалась и поцеловала ее пальчики — мне хотелось вернуть ей тот поцелуй, которым она недавно одарила мою ладонь; и она, притворясь, будто хочет мне помешать, а на самом деле помогая моим губам, несколько раз кряду шлепнула по ним тыльной стороной ладони.
Она выпила капельку густого барбадосского ликера, разбавленного бокалом Канарского вина, и я — примерно столько же. Разумеется, это было немного, но вполне довольно, чтобы развеселить двух женщин, привыкших пить одну воду, слегка подкрашенную вином. Розетта вольно откинулась назад, весьма нежно припав к моей руке. Она сбросила накидку и сидела выгнувшись, так что верхняя часть груди, напряженная и застывшая в неподвижности, обнажилась; цвет этой груди был восхитительно нежен и прозрачен, форма — отменно изящна и вместе с тем тверда. Некоторое время я созерцала ее с бесконечным волнением и удовольствием, и мне подумалось, что мужчинам везет в любви больше, чем нам: мы им даруем обладание самыми очаровательными сокровищами, а они не могут предложить нам взамен ничего подобного. Какое, должно быть, наслаждение скользить губами по этой нежной и гладкой коже, по этим округлым контурам, которые словно стремятся навстречу поцелую и напрашиваются на него! Атласная плоть, лабиринты волнистых линий, шелковистые и такие мягкие на ощупь пряди волос — какие неисчерпаемые запасы сладостной неги, которых мы никогда не отыщем у мужчин! Мы в ласках обречены на пассивность, а ведь давать приятнее, чем получать.
Вот наблюдения, которые наверняка были мне недоступны в прошлом году: тогда я могла спокойно смотреть на все плечи и груди в мире, не заботясь о том, хороши ли их формы; но с тех пор как я отказалась от женского платья и живу в окружении молодых людей, во мне развилось чувство, прежде мне неведомое, — чувство прекрасного. Женщины как правило его лишены, не знаю почему, ведь, на первый взгляд, казалось бы; они скорее способны судить о красоте, чем мужчины; но поскольку обладают красотой именно они, а познать самого себя — наиболее трудное дело на свете, неудивительно, что они ничего не смыслят в прекрасном. Обыкновенно, если одна женщина считает другую хорошенькой, можно не сомневаться, что эта другая — сущая уродина, и ни один мужчина не обратит на нее внимания. Зато всех женщин, чью красоту и грацию превозносят мужчины, сборище судей в юбках единодушно объявляет безобразными и жеманными; об этом кричат и вопят без конца. Если бы я на самом деле была тем, кем кажусь, я в своем выборе не руководствовалась бы никакой другой подсказкой, и осуждение женщин было бы для меня самым убедительным удостоверением женской прелести.
Теперь я люблю и знаю красоту; платье, которое я ношу, отделяет меня от моего пола и освобождает от всякого чувства соперничества; я способна судить о прекрасном лучше, чем кто бы то ни было. Я уже не женщина, но я еще не мужчина, и желание не ослепит меня настолько, чтобы принять манекен за божество; я смотрю холодным взором, без предвзятости в ту или иную сторону, и суждение мое бескорыстно, насколько это возможно.
Длина и пушистость ресниц, прозрачность висков, ясность глазных хрусталиков, завитки уха, цвет и блеск волос, аристократичность рук и ног, более или менее изящный рисунок лодыжек и запястий, тысяча вещей, на которые прежде я не обращала внимания, хотя они составляют самую суть красоты и свидетельствуют о чистоте породы, руководят мною в оценках и не дают ошибиться. Полагаю, что женщину, о которой я сказала: «Она и впрямь недурна», можно одобрить с закрытыми глазами.
Из этого вполне естественно следует, что в картинах я стала разбираться много лучше, чем до сих пор, и, хотя знания, коими я руководствуюсь, весьма поверхностны, нелегко было бы уверить меня в том, что дурная картина хороша; в изучении живописного полотна я черпаю странную и глубокую радость; ибо духовная и физическая красота, как все на свете, требует изучения и с первого взгляда в нее не проникнешь. Но вернемся к Розетте; к ней нетрудно перейти от предыдущей темы: одно тесно связано с другим.
Как я уже сказала, красавица приникла к моей руке, а голова ее покоилась у меня на плече; волнение слегка тронуло румянцем ее прекрасные щечки нежного розового цвета, который великолепно подчеркивала глубокая чернота крохотной кокетливой мушки; ее зубы между улыбающихся губ поблескивали, как капли дождя в чашечке мака, а полуопущенные ресницы усиливали влажное сияние огромных глаз; солнечный луч рассыпал тысячи металлических блесток по ее шелковистым переливающимся волосам, от которых отделялись несколько локонов и спиралью спускались вдоль округлой полной шеи, оттеняя ее теплую белизну; несколько шальных кудряшек, самых непокорных, выбивались из прически и закручивались капризными пружинками, позлащенные удивительными бликами, и в лучах света играли всеми цветами радуги: они напоминали те золотые нити, что окружают голову Богоматери на старинных картинах. Мы обе хранили молчание, и я забавлялась тем, что следила, как под перламутровой прозрачностью ее висков бьются лазурно-голубые жилки, как мягко и незаметно истончаются и ближе к вискам сходятся на нет ее брови.
Красавица сидела с сосредоточенным видом и, казалось, убаюкивала себя грезами беспредельного сладострастия; руки ее покоились вдоль тела, трепещущие и расслабленные, как развязанные шарфы; голова все дальше откидывалась назад, словно поддерживающие ее мышцы были перерезаны или слишком слабы для такой ноши. Обе ножки она подобрала и спрятала под юбку, и вся вжалась в угол кушетки, где сидела я, и хотя кушетка была слишком узка, с другой стороны от моей соседки оставалось еще много свободного места.
Тело ее, гибкое и податливое, лепилось ко мне, как воск, и с необыкновенной точностью повторяло все контуры моего тела: вода, и та не могла бы с такой неотступностью обтекать все его изгибы. Плотно прижимаясь к моему боку, она напоминала собой ту вторую черту, которую художник добавляет к своему рисунку с той стороны, которая как бы находится в тени, чтобы контур получился потолще и пожирней. Только влюбленная женщина в состоянии так изогнуться и прильнуть. Куда до нее иве и плющу!
Я чувствовала нежное тепло ее тела сквозь ткань наших одежд; вокруг нее вились тысячи магнетических ручейков; казалось, вся жизнь ее без остатка перетекает в меня. С каждой минутой она все более слабела, умирала, клонилась: на ее блестящем лбу выступили бисеринки пота, глаза увлажнились и два-три раза она приподняла руки, словно желая спрятать лицо, но всякий раз томно роняла их на колени, не в силах исполнить это намерение; с век ее сорвалась крупная слеза, покатилась по пылающей щеке и вскоре высохла.
Положение мое становилось все более затруднительным и весьма смешным; я чувствовала, что у меня, должно быть, неописуемо глупый вид, и это меня крайне удручало, хотя выглядеть лучше было не в моей власти. Какие бы то ни было поползновения были для меня запретны, а только они и были бы сейчас уместны. Я слишком была уверена в том, что не встречу сопротивления, и потому не смела рисковать; я попросту не знала, куда деваться. Любезничать, отпускать комплименты — все это хорошо для начала, но в нынешних обстоятельствах это было бы уже чересчур пресно; встать и уйти — было бы непозволительной грубостью; помимо всего прочего я не ручаюсь, что Розетта не вздумала бы разыгрывать жену Потифара и не удержала бы меня за край плаща. У меня не было никакой достойной уважения причины для объяснения своей стойкости, и потом, к стыду своему, должна признаться, что эта сцена, при всей ее двусмысленности, была не лишена для меня известного очарования, удерживавшего меня на месте сильнее, чем следовало бы: и пылкое желание моей спутницы разжигало меня своим пламенем, и я воистину досадовала, что не могу его утолить: мне даже хотелось быть мужчиной, на которого я так была похожа, чтобы увенчать эту любовь, и мне было жаль, что Розетта ошибается. Дыхание мое участилось, лицо залилось краской, я была взволнована ничуть не меньше, чем моя бедная обожательница. Мысль о том, что мы с ней принадлежим одному полу, мало-помалу изгладилась из моей памяти, уступив место смутной тяге к наслаждению; мой взгляд затуманился, губы задрожали, и, будь Розетта не тем, чем она была, а кавалером, она одержала бы надо мной легкую победу.