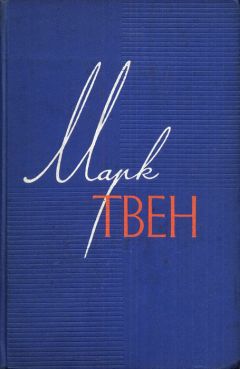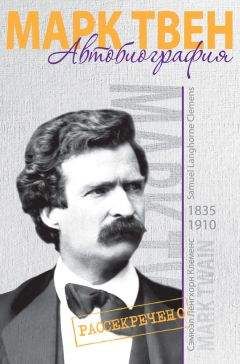Марк Твен - Письма с Земли
Зрителей собралось свыше миллиона человек, свет костров выхватывает из ночи неясные очертания шпилей пяти тысяч церквей. О добрый миссионер, о сострадательный миссионер, покинь Китай, вернись домой и обрати этих христиан!
Думается мне, что если что-либо и может остановить эту эпидемию кровавых безумств, – так это бесстрашные люди, которые способны, не дрогнув, противостоять толпе; и поскольку люди такого рода выковываются только в атмосфере опасности, закаляясь в борьбе с нею, то скорее всего их можно встретить среди миссионеров, которые последний год или два подвизались в Китае. У нас для них непочатый край работы, дела хватит и еще для многих сотен и тысяч, и поле деятельности ширится с каждым днем. Найдем ли мы таких людей? Можно попытаться. Среди 75 миллионов американцев должны же найтись еще Мэриллы и Бэлоты, а по законам, которые мы сами изобрели, каждый пример будет пробуждать дотоле дремавших рыцарей одного с ними великого ордена и выдвигать их в первые ряды.
О ЗАПАХАХ[98]
В последнем номере «Индепендент» преподобный Толмедж из Бруклина следующим образом высказывается на тему о запахах:
«У меня есть приятель, добрый христианин; если он сидит в церкви на передней скамье, а в заднюю дверь войдет в это время рабочий, он его сразу учует. Ставить в упрек моему приятелю остроту обоняния не более разумно, нежели пороть пойнтера за то, что нюх у него острее, чем у безмозглого дворового пса. Если бы все церкви стали общедоступными и люди заурядные полностью мешались с незаурядными, то половина христианского мира постоянно страдала бы тошнотой. А если вы намерены подобным образом убить церковь дурными запахами, я не желаю иметь никакого касательства к вашей проповеди евангелия».
У нас есть основания предполагать, что и рабочие люди будут в раю; да еще изрядное число негров, эскимосов, уроженцев Огненной Земли, арабов, несколько индейцев, а возможно – даже испанцы и португальцы. Бог на все способен. Все эти люди будут рядом с нами в раю. Но – увы! – приобретая их общество, мы потеряем общество доктора Толмеджа. А это значит, что мы теряем того, кто мог бы придать небесам больше подлинной «светскости», нежели любой другой смертный, каким только способен пожертвовать Бруклин. И вообще, чем будет вечная радость без доктора? Да, конечно, блаженство, это мы и так отлично знаем, но будет ли оно distinque[99], будет ли оно recherche[100] без него? Св. Матфея босиком, св. Иеремию с непокрытой головой, в грубом балахоне до пят, св. Себастьяна почти нагого – их-то мы увидим и насладимся этим зрелищем; но не будет ли нам недоставать фрака и лайковых перчаток, и не отвернемся ли мы с чувством горького сожаления, и не скажем ли гостям с Востока: «Это все так, но вам бы хоть краешком глаза взглянуть на Толмеджа из Бруклина!..» Боюсь, что в лучшем мире с нами не будет и «доброго христианина», приятеля мистера Толмеджа. В самом деле, случись ему сидеть, осененному славой престола божия, а ключарю впустить в это время, скажем, Бенджамина Франклина или еще какого-нибудь труженика, этот «приятель» со своими блистательными природными способностями (которые безмерно умножатся благодаря освобождению от оков плоти) учует его с первой же понюшки, немедленно возьмет свою шляпу и откланяется.
По всем внешним признакам преподобный Толмедж сделан из того же теста, что и его ранние предшественники на поприще пастырского служения; и все же сразу чувствуется, что должно быть некое различие между ним и первыми учениками Спасителя. Быть может, дело в том, что ныне, в девятнадцатом веке, доктор Толмедж обладает преимуществами, которых Павел, Петр и другие не имели и не могли иметь. Им не хватало лоска, хороших манер и чувства исключительности, а это волей-неволей бросается в глаза. Они исцеляли самых жалких нищих и ежедневно общались с людьми, от которых разило невыносимо. Если бы предмет настоящих заметок оказался избранным в числе первых – одним из двенадцати апостолов, он бы не пожелал присоединиться к остальным, потому что не в силах был бы вынести запаха рыбы, исходящего от некоторых его товарищей, что явились с берегов моря Галилейского. Он бы сложил с себя полномочия, прибегнув почти к тем же выражениям, какие употреблены в выдержке, приведенной выше. «Учитель, – сказал бы он, – если ты намерен подобным образом убить церковь дурными запахами, я не желаю иметь никакого касательства к проповедям евангелия». Он – ученик, и заблаговременно предупреждает своего учителя; вся беда в том, что он делает это в девятнадцатом веке, а не в первом.
Интересно, есть ли в церкви мистера Толмеджа хор? А если есть, то случается ли ему когда-нибудь опускаться настолько, чтобы петь гимн, так грубо напоминающий о работниках и ремесленниках:
О ты, сын плотника! Прими
Мой малый, скромный труд.
И еще: возможно ли, чтобы за неполные два десятка веков христианский характер от величественного героизма, презиравшего даже костер, крест и топор, пришел к столь жалкой изнеженности, что он склоняется и никнет перед неприятным запахом? Мы не можем этому поверить, вопреки примеру достопочтенного доктора и его приятеля.
ВАЖНАЯ ПЕРЕПИСКА[101][102]
Я давно уже с глубоким интересом следил за попытками привлечь вышеупомянутых почтенных священнослужителей – вернее, какого-нибудь одного из них – на должность проповедника в прекрасном сан-францисском храме, носящем название собор Милосердия. Когда же я увидел, что все старания церковного совета ни к чему не приводят, я счел своим долгом вмешаться и собственным влиянием (уж какое там оно ни есть!) поддержать их благородное дело. При этом я не угодничал перед церковным советом и не преследовал никаких личных целей, о чем достаточно ясно говорит тот факт, что я не состою в числе прихожан собора Милосердия, никогда не беседовал об этом с церковным советом и даже не заикался о своем желании написать священникам. То, что я сделал, я сделал по доброй воле, без просьб с чьей-либо стороны; мои действия продиктованы исключительно альтруистическими побуждениями и симпатией к прихожанам собора Милосердия. Я не жду наград за свои услуги, мне нужна лишь чистая совесть, спокойное сознание, что я наилучшим образом исполнил свой долг.
М.Т.
Между мною и его преподобием доктором Беркутом состоялся следующий обмен письмами.
Мое письмо его Преподобию Беркуту:
«Сан-Франциско, март 1865 г.
Дорогой доктор!
Мне стало известно, что Вы телеграфировали церковному совету собора Милосердия свой отказ приехать в Сан-Франциско на пост настоятеля, не согласившись на предложенные Вам условия – 7000 долларов в год; в связи с этим я решил сам обратиться к Вам с письмом. Скажу Вам по секрету (это не для разглашения, пусть никто ничего не знает!), собирайте свои монатки и спешите сюда, я устрою все наилучшим образом. Совет схитрил, он понимал, что Вас 7000 долларов не устроят, но он думал, что Вы назначите свою цену и с Вами можно будет поторговаться. Теперь уж я сам займусь этим делом, растормошу всех священников, в результате Вы здесь за полгода заработаете больше, чем в Нью-Йорке за целый год. Я знаю, как это делается. Со мной считается местное духовенство, особенно его преподобие доктор Вадсворт и его преподобие мистер Стеббинс: я пишу за них проповеди (последнее, впрочем, публике неизвестно, и прошу на сей счет не распространяться!), и я могу в любую минуту подбить их, чтобы все они потребовали прибавки.
Вы будете довольны этим местом. Оно куда привлекательнее всех прочих известных мне мест. Во-первых, здесь грандиозное поле действия: грешников – хоть пруд пруди. Достаточно закинуть сеть, и улов Вам обеспечен; просто удивительно – самая что ни на есть скучная, затасканная проповедь пригонит к Вам не меньше полдюжины кающихся. Поверьте, Вас ждет весьма оживленная деятельность при очень скромных усилиях с Вашей стороны. Приведу такой пример: однажды я накатал бредовую, бессмысленную проповедь – вряд ли Вы когда-нибудь слышали такую – для священника епископальной церкви, и он сразу выловил семнадцать грешников. Тогда я слегка переделал ее, чтобы годилась для методистов, и его преподобие Томас поймал еще одиннадцать. Недолго думая, я опять на скорую руку переиначил кое-что, и тут уже Стеббинс обратил в свою – унитарианскую – веру несколько человек; я не поленился, перекроил еще разок, и доктор Вадсворт использовал ее столь же успешно, как самые лучшие мои сочинения в этом жанре. И так эта проповедь пропутешествовала из церкви в церковь, каждый раз меняя наряд, дабы соответствовать очередному религиозному климату, пока не обошла наконец весь город. За время ее действия мы выловили в общей сложности сто восемнадцать самых отвратительных грешников, которые катились прямой дорогой в ад.