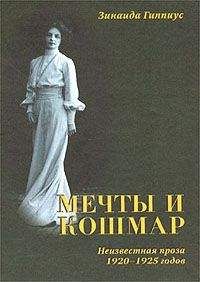Зинаида Гиппиус - Чего не было и что было
Все три условия в Дневнике, о котором я говорю, более или менее соблюдены. Что касается третьего, то, помимо постоянных, близких соприкосновений с большинством лиц, подходивших к «часам истории», наблюдательный пункт записывающего был счастлив даже географически: не в Петербурге ли зачинались и развивались события, потрясавшие затем всю Россию?
Хотя дневник этот — мой собственный, у меня, по многим причинам, отношение к нему сейчас абсолютно объективное. Восемь лет он не был у меня в руках. Восемь лет считался погибшим (вторая книга, годы 18-й и 19-й, и действительно погибла). Смотрю на него, как на вернувшегося с того света. Он мне нов, далек и чужд (кое в чем лишь не чужд, но об этом ниже). Читаю, — иному совсем невозможно верить: да неужели было? Какой урок для памяти человеческой? Как она слаба и как мало знает о своей слабости! Сколько потерять может в 7–8 лет! Пусть бы терялись ненужные мелочи (много их во всяком дневнике!), но ведь пропадают не только они…
И вот, стоит положить эти древние страницы, говорящие о бывшем, о словах и делах людей у «часов истории», — рядом с сегодняшними словами тех же людей, с их статьями и спорами, чтобы тревожно изумиться и задуматься. Забвенье? Нет, у Керенского есть что-то сверх простого забвенья. У него такое искреннее состояние невинности, будто он недавно вновь родился, или воскрес, после смерти, — в раю. Оттого и не имеет он ничего (как где-то сказал) против «личной с ним полемики», упреков в безответственности… но оттого и бесполезно обращать к нему подобные упреки.
Об ответственности Милюкова (за другой период времени), которой он тоже не касается и которой, очевидно, не сознает, я скажу как-нибудь в другой раз. Нам, внимательным обывателям, кое в чем можно верить: мы никогда не теряем здравого смысла, а эта точка зрения, в иные времена — самая надежная: многое позволяет видеть с ясностью.
Мы видели, например, мы считали (и продолжаем считать), что Керенский, стоявший в последние дни Февраля у «часов истории», был тогда на своем месте, и не только был прав, но даже только он один тогда и был прав.
Вот из современной записи: «…Керенский — настоящий человек на настоящем месте. The right man on the right place [40], — как говорят умные англичане… Или — the right man on the right moment?!»[41]. А что, если только for one moment?.»[42]. Затем, гораздо позже, когда почти все уже совершилось: «…Мы не переменились к Керенскому. Он был таким, каким был нужен времени. Но он был один, и тяжесть раздавила слабые плечи. Уже к июню (раньше?) он был конген. И продолжая держаться мертвыми руками за руль российского корабля, все время, все эти месяцы, вел его в водоворот».
У Керенского были проблески сознанья своей мертвости. О, слишком краткие и слишком поздние! Один из них: 17 августа, четверг. Разговор Савинкова и Керенского, утром приехавшего с Московского Совещания. Савинков соглашается взять назад свою отставку: «Все более или менее выяснилось. Однако мне нужно было еще сказать ему несколько слов частным образом. Я напомнил ему, как оскорбителен был его последний разговор.
— Тогда я вам ничего не ответил, но забыть этого я еще не могу. Вы разве забыли?
Он подошел ко мне, странно улыбнулся…
— Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я… больной человек. Нет, не то. Я умер, меня уже нет. На этом Совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить, и никто меня не может оскорбить…».
Есть это, или нет в «Воспоминаниях» Савинкова — не знаю; я никаких савинковских воспоминаний не знаю. Это устный рассказ в тот же вечер. А так сочинить его Савинков не имел в то время нужды, — полагаю, что слова произнесены были. Проблеск сознания (тотчас погаснувшего) был.
Не становится ли, ввиду всего этого, более понятным и теперешнее, до дна искреннее, райское состояние Керенского, ощущение полной невинности, неответственности за «срыв России»? Как отвечать за свои «мертвые руки»? Ведь их мертвости даже не чувствуешь…
Ответственность-то осталась, конечно. Но с какого-то момента перенеслась на других, на близко стоявших в то время и к «часам», и к самому Керенскому. Удвоенной тяжестью пала, ибо сделалась уже ответственностью и за Керенского, за мертвые его руки…
* * *Дневник настолько не кажется мне личной «собственностью», что меня стеснило бы сделать в нем какие-нибудь исправления: уничтожить, например, лишние мелочи, или, — что хуже, — некоторые наивности. Впрочем, последние искупаются постоянным возвращением к спасительной точке зрения — Правого смысла.
Но есть в дневнике нечто, делающее его все-таки моим; заставляющее меня отвечать за него целиком. Это — общая линия, которая и определяет, в каждый момент времени, позицию записывателя. (Не следует думать, что у обывателя не может быть «позиции». Очень может.) Общая линия дневника — моя; и она, все та же самая, определяет для меня и позицию сегодняшнего дня. Как даже Милюкову ясно, что, признав значение личности в истории, нельзя не признать и личной ответственности, так ясно мне еще многое другое. Мне ясно, что, признав самодержавие отжившей и пагубной формой и поняв, что иным путем, кроме революционного, оно свергнуто быть не может, — нельзя не утверждать революции февральской. Она происходила не вовремя? Да; но одни говорят: «слишком рано»; другие — «слишком поздно». Я говорю последнее; и мне не только не по пути с теми, кто эту революцию не отрицает или проклинает, но даже с находящими, что она слишком «рано» совершилась. Для меня ясно, — и было ясно с первого момента, — что святая (да, святая) белая борьба успеха иметь не могла, и не будет иметь, если возродится в прежней форме и с прежним содержанием. Я знаю, что никаким евразийцам России в Азию не превратить, а равно и коммунистам — не уничтожить собственного ее, вечного лика; но я знаю также, что идея только узконационалистическая, одна, в какой бы среде она ни действовала, бессильна в борьбе с интернационалом.
Я не сомневаюсь, что если бы Милюков занял позицию вроде сегодняшней 12 лет тому назад, он мог бы сыграть, в ходе тогдашних событий, громадную и благодетельную роль; но мне слишком ясно, что, при коренной перемене соотношения сил и самих сил, теперь, — эта же (формально) позиция есть позиция распыления или омертвения, и — разложения. Мне далее ясно, что все старые, так называемые «левые» партии, одушевляемые некогда идеей свободы и шедшие на борьбу за нее, — ныне просто перестали как таковые существовать. Ни одна не сумела расширить, соответственно времени, свои основы и положения, и жизнь ушла у них из-под ног.
Партия эсеров, самая когда-то живая и русская партия, раздавлена тяжелой ответственностью за «срыв России», тем более тяжелой, что она же этой ответственности не сознает. Одна часть партии еще пребывает в окостенелом виде, другая — насквозь изъедена тлей большевизма.
Стоит ли упоминать о группировках и партиях «правых»? Мой взгляд в эту сторону и так известен. Состояние же этих партий таково, что обеспокоен ими может быть сейчас разве только левый прозелитизм Милюкова.
Наконец, яснее ясного для меня следующее: из утверждения всех ценностей во всех областях жизни — должно вытекать абсолютное и всестороннее отрицание большевизма, в какой бы форме, и где, он ни проявлялся. Только такое отрицание может подвинуть на борьбу с большевизмом, но только при полном, четко определенном и открытом утверждении ценностей свободы, права и личности можно находить те, соответствующие моменту, конкретные формы борьбы, которая делала бы ее успешной.
Я подчеркиваю: из этой единой общей линии, которую я здесь бегло, случайными чертами, намечаю, может и должно, рождаться самое определенное отношение ко всякому реальному явлению в сложном содержании сегодняшнего дня истории.
* * *Мне скажут, конечно (даже те, кто основную линию нащупает): «Что же это за позиция? Как раз реально-то она и не существует. Вы не с Керенским, не с Милюковым — у них нет адамантового камня непримиримости, что делает тактику их мерцающей, для нас неприемлемой. Вы и не с теми, кто, выражаясь условно, «правее»: им не хватает других краеугольных камней. Где же вы? Просто ни с кем? Просто нигде».
Да, если ограничить поле зрения политическими вождями и тесным их окружением, — видимость будет именно такова.
Больше: если ограничить время одной данной секундой — я не смогу указать даже на какое-нибудь определившееся течение… ибо и течения такого, вполне определившегося, еще нет. Существуют, однако, признаки, что оно может родиться, и как раз там, где мне, отнюдь не профессионалу, всего естественнее его искать и всего важнее найти: среди общей массы здешних русских людей. В большинстве она пока «беспризорна» (и слава Богу!), политически наивна (воображая, что аполитична) и живет, если угодно, обывательски… до того или другого серьезного момента, когда воочию сливаются «политика» и жизнь, когда нужно сделать «выбор» пути. Тогда выбор делается — не сознательно, лишь по интуиции, но гениальной, а потому выбор всегда верный, тот же, какой был бы сделан и сознательно. Не политические вожди его предсказывают, нет, он делается помимо них, а при случае даже вопреки им.