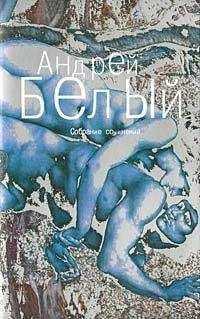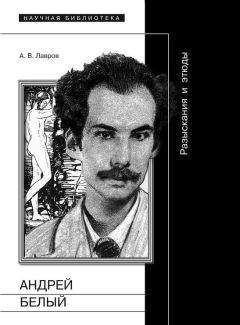Андрей Белый - Серебряный голубь
– Никогда.
– Но пора вам на отдых: Аннушка, проводи барина!
Уже Петр давно ушел восвояси, а все еще в кровавом блеске лампад, средь перин, подушек, пуховиков, перед изображением птицы-голубя, вылитым из тяжелого серебра, в одной исподней сорочке и с распущенною косой поклонялась Фекла Матвеевна в своей душной опочивальне, куда не было доступа никому, кроме Аннушки-Голубятни.
Мужа она теперь не боялась, потому что муж теперь был вовсе без языка; ежели б видел он что и понимал, то и то бы не мог сказать; а он, еще вдобавок, не понимал, лишившись рассудка, да и был он при одном своем отдаванье Богу души; только крепко душа Луки Силыча, знать, была привязана к телу; из недели в неделю, тянулось это Богу души отдаванье; и даже странно сказать: доктора ждали смерти со дня на день, а вот уже более недели к Луке Силычу слабое вернулось и руками обладание и ногами; последние же дни он все что-то ворочал языком и тянулся с постели; а три дня назад взял, да и спустил ноги с кровати; и заставил-таки себя по комнате провести; с этих пор каждый день старухи его по комнатам перед сном проводили: доктор же уверял, что это последние Луки Силыча дни.
Грех сказать, чтобы Фекла Матвеевна мужа смерти хотела, а только, думалось ей, – ну, как слово к нему вернется, да он ей и скажет: «А что, матушка, это у вас завелось: а правда ли?» Только если бы и вернулся язык, никак не вернулся бы разум: мозги потрясенные были у Луки Силыча; так вот вчера: как мужнину комнату Фекла Матвеевна посетила, все трясущейся он рукой невнятные перед ней чертил знаки, а у самого-то слезы, слезы ручьями: пришлось снять очки, да глаза обтирать; а он смотрит в глаза ей, так жалобно и, что малый ребенок, заливается в три ручья; поплакала с мужем и Фекла Матвеевна; и запомнились ей дрожащие мужниной пораженной руки знаки: все будто «о» у него выходило, потом «т е» буква и «ер»: от р…, а дальше Фекла Матвеевна понять не могла: думала слово продолжить и вышло: Отрыганьева (родом она была Отрыганьева); думала, не ей ли, Отрыганье-вой родом, смерть Лука Силыч пророчит: эти нищие духом, у которых мозги болят, тоже ведь иной раз не хуже мудрых провещиваются.
– Осподи, Осподи! – вздыхала купчиха в красном свете лампад.
– Осподи!
И тяжелая серебряная птица простирала над
ней свои крылья…
Вдруг – в пустой зале стук, и легкий туфельный лепет; туфлями кто-то шаркнул; выбежала «лепешка» в одной исподней сорочке в коридор и выглядывает в залу; и видит: посреди-то залы сам стоит Лука Силыч с дрожащей в руке свечой: встал-таки ночью, да и поволочил ноги по комнатам, еще свечку сил хватило с собой забрать (видно, сиделка уснула, а он встал да пошел); только какой же это Лука Силыч? Смерть черными окнами очков уставилась на купчиху; видит ее, за ней, Отрыганьевой родом, протягивается: одна рука пляшет со свечой, другая о-те-ер выводит в воздухе, дрожа; а губы-то Лука Силыч раздвинул, рот раскрыл и ворочает бессильно языком: может, оскалился он на «лепешку»?
Только «лепешка» и ахнула, да присела на корточки, прикрывая руками груди (так как была раздевшись), на мужа глядит.
А он от тихого ее «аху» свечу уронил, и обоих супругов тьма обуяла; слышался Феклы Матвеевны плач да легких туфель к ней в темноте приближенье, да тяжелое грохотанье подсвечника, покатившегося в угол.
Домой!
Из-под бледного-бледного, черным покрытого платком лица глядели Петру в лицо Аннушкины большие глаза так задумчиво, так уверенно, так спокойно; строго она там стояла с приподнятым в руке фонарем, ей бросавшим в восковые черты легкосветный, кровавый отсвет; другая же ее рука дверь распахивала в темноту; и протянутая та рука будто ему указывала беспрекословно снизойти туда, где не видел он ничего, кроме тьмы, да лепета листьев, да ему в лицо оттуда бившего ветру; родненькая сестрица, за собой его она туда уводила, без слов с очами его очи ее внятно так ему говорили: «Все-все-все расскажу, все-все-все…»
– Да я и сам…
– Нет, уж нам это сказать предоставьте…
____________________
Но ничего такого промеж них сказано не было: то говорили их друг другу глаза; уста же их произносили речи иные.
– Как – разве мне туда?
– Туды: во флигеле вам постелено!
– А флигель-то где?
– В плодовом саду: пожалуйте, барин.
На минуту подумал Петр, что ему не мешало бы захватить с собой и пальто; но раздумал: близко, ведь, было.
Он прошел за ней в дверь.
И странно: все то отсутствие света и тьмы, в котором барахтался он так недавно в лиховских переулках, теперь было наполнено тьмою, но трепетало, шумело, но ликовало под порывами холодного такого ветра, будто по мановению руки новой его водительницы; тьма трепетала тысячами листочков; грушевые деревья им бросались навстречу под световой круг фонаря; в этом света кругу зацветали зеленью; а спокойная ночь раздалась необычно над их головами, указывая на свои миры и созвездье: Петру казалось, что они направлялись к звездам, и он твердо шел за мелькавшим пред ним фонарем.
Вот он, флигелек, в глубине плодового сада, приветно моргавший в нем уже засвеченным огоньком.
Но когда Аннушка отпирала дверь, на минуту Петр вздрогнул:
– А флигель-то – пуст?
– Пуст.
– Здесь я и буду? Один?
– Я останусь, при вас останусь, – сказала она и просто так улыбнулась; на пороге стояла она с приподнятым фонарем, а другою рукой она перед ним настежь распахивала дверь, и, казалось, что эта рука, лежавшая на двери, властно показывала ему его новую дорогу.
Петр обернулся и все надышаться не мог бурно бившим ветром ему в могучую грудь, налюбоваться не мог он теми звездами, которые ему открывала спокойная ночь; сколько раз он уже видел все это, но будто сегодня увидел все это он впервые и старался запомнить, чтобы уже не забывать никогда.
А она стояла, ждала, указывала на дверь с высоко приподнятым фонарем.
Петр прошел под ее фонарем: спертый его охватил запах; она заперла дверь; они были теперь с глазу на глаз в этом душном преддверье.
Проходя в отведенную ему для ночлега комнату, он замечал, что полы здесь были вымыты квасом и прилипали к подошвам; коридорчик заворачивал вправо и влево; посреди его была дверь; они прошли в эту дверь; Петр увидал чистую комнатку, белую, с пышно взбитыми подушками, постель, красного дерева комод, ночной столик, рукомойник, прочие принадлежности ночи – все в исправном порядке: даже письменные на столе части, конверты, бумага, марки; увидел он и веревку, брошенную под постель; все то пузатенькая освещала лампа.
«Давно в этакой роскоши мне не приходилось спать», – подумал он.
И еще раз взглядом окинул комнатку; и тут он заметил, что над дверью было отверстие с вынутым из него стеклом, в которое можно бы было при желании просунуть голову, предварительно перед дверью подставив табурет; все это он бесцельно разглядел (как и все рассеянные люди, в глазах которых ненужные мелочи запечатлеваются мгновенно, главное же неискоренимо ускользает от наблюдения).
В последний раз оглянулся он на своего нового, без слов его понимавшего друга: «Милая, родненькая сестрица», дрогнуло жалостью его сердце, и всего его потянуло к ней рассказать, сказать, поделиться, братски поцеловать эти без единой кровинки уста и шепнуть, как шепчут только после, долгой разлуки.
– Ну?
И он сказал:
– Ну?
Но она низко, серьезно ему поклонилась; будто молодая монашка, отдавшая в храме иконе земной, поясной поклон.
– Ну?
Она плотно притворила за собой дверь; она осталась за дверью. Петр был один.
Долго еще он сидел, нагнувшись над столом; он писал Кате, лихорадочно, спешно, точно желая в одном этом письме высказать ей всего себя, объяснить ей все эти дни себе самому непонятное, а теперь вдруг ставшее ясным до очевидности поведенье; и мы поверим Петру, что слова эти свои – он нашел; он надписал конверт, наклеил марку, сунул письмо в карман пиджака; а все еще он сидел за столом: «Сестрица, родненькая – ты открыла мне очи; ты мне вернула меня самого…» Душа Петра омывалась в слезах: уже был он в забытье: и ему казалось, что далеко Лихов остался у него за плечами, а что шел он по пустому полю, растирал горько-пряные травы, смотрел в уходящие с зарей за поля желтоватые жемчуга; на его груди были перстов незримых касанья, на устах – целованья нежно-трепетных уст; все дальше он шел по пустому полю на негромко звучавшие ему песни без слов; и все тот же искони знакомый, давно забытый, сестринский слышался ему голос: «Приди ко мне – приди, приди!»
– Я слышу, я возвращаюсь…
И возвратился из забытья: должно быть, его разбудил шорох и, когда он обернулся, была открыта в его комнату дверь.
– Ну?
В дверях он увидел грустное, чуть насмешливое Аннушкино лицо во всем белом:
– Вам не надать ли еще чево-либо?
– Ну?
Она вызывающе засмеялась; и казалось, что ей самой было трудно сказать эти бессвязные, ухо Петра резнувшие слова: