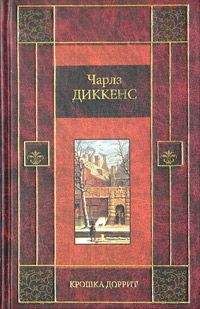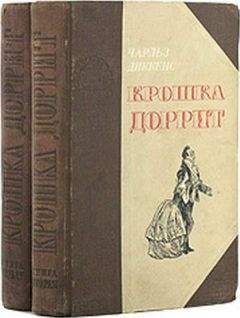Чарльз Диккенс - Крошка Доррит. Книга первая
Так, переходя от хвастовства к отчаянию, но при этом неизменно оставаясь арестантом, отравленным нездоровым воздухом тюрьмы, с душой, насквозь пропитавшейся гнилью тюремной жизни, раскрывал он перед беззаветно преданной ему дочерью неприглядные глубины своего существа. Никому, кроме нее, не случалось видеть его и такой откровенной наготе. Его недавние слушатели, которые, разойдясь по своим углам, беззлобно потешались над произнесенной им речью, не могли и вообразить себе, какая мрачная картина пополнила в этот воскресный вечер невеселую коллекцию Маршалси.
История — или легенда — сохранила классический пример дочерней любви:[50] дочь, которая кормила в тюрьме умирающего с голоду отца так, как ее когда-то кормила мать. Крошка Доррит, хотя не римлянка, а англичанка, и притом нынешнего, отнюдь не героического поколения, сделала для своего отца много больше: в ее невинной груди находил он неиссякаемый источник любви и верности, который все эти долгие годы питал его изголодавшуюся душу.
Она утешала его, умоляла простить, если в чем-нибудь была или казалась недостаточно верной своему долгу; уверяла его — и видит бог, это была правда! — что любит и почитает его не меньше, нежели будь он баловнем фортуны, всеми признанным и уважаемым. Когда его слезы высохли, и всхлипывания утихли, и проблески стыда перестали беспокоить его, и к нему вернулись его обычные повадки, — она разогрела остатки ужина, села рядом и радовалась, глядя, как он ест и пьет. В своей черной бархатной ермолке и старом сером халате он снова был величественным, как всегда, и приди к нему сейчас кто из пансионеров посоветоваться о собственных делах, он держал бы себя с ним как лорд Честерфилд[51] — великий авторитет в вопросах морали, как верховный блюститель нравственного этикета Маршалси.
Чтобы развлечь его, она завела беседу о его гардеробе, и он соизволил сказать, что сорочки, которые она хочет ему сшить, придутся весьма кстати, так как старые совсем истрепались, да к тому же, будучи куплены готовыми, всегда прескверно сидели. Войдя во вкус предмета, он обратил ее внимание на свой сюртук, висевший за дверью, и рассудительно заметил, что когда Отец ходит с продранными локтями, это едва ли может служить хорошим примером для детей, тем более если они и без того склонны к неряшеству. О своих стоптанных башмаках он упомянул в добродушно шутливом тоне, но, дойдя до галстука, вновь сделался серьезен и пообещал ей, что она купит ему новый, как только сумеет выкроить для этого деньги.
Потом он не спеша выкурил сигару, а она в это время стелила ему постель и прибирала комнату на ночь. Наконец, чувствуя усталость, так как час был поздний, да и недавнее волнение давало себя знать, он встал с кресла. благословил ее на прощанье и пожелал ей покойной ночи. Ни разу за все это время не пришло ему в голову подумать о ее платье, ее башмаках, о многих и многих вещах, которых у нее не было. Никто на свете не мог быть столь равнодушным к ее нуждам — разве только она сама.
Он несколько раз поцеловал ее, повторяя: «Господь с тобой, дитя мое! Покойной ночи, дружочек!»
Но то, что ей пришлось увидеть и услышать, так больно врезалось в ее нежное сердце, что она не решалась оставить его одного, боясь, как бы не повторился этот приступ горя и отчаяния.
— Отец, дорогой, я ничуть не устала, позвольте, я приду и посижу около вас, когда вы ляжете.
— Ей, верно, тоскливо одной? — спросил он покровительственным тоном.
— Да, да, отец.
— Тогда приходи, дружочек, приходи непременно.
— Я буду сидеть тихонько и не помешаю вам.
— Не думай обо мне, дитя мое, — великодушно подкрепил он свое разрешение. — Приходи непременно.
Он словно бы уже дремал, когда она опять вошла в комнату. Огонь почти потух, и она принялась мешать в камине, тихо-тихо, чтобы не разбудить спящего. Но он услыхал и спросил, кто тут.
— Это я, отец, я, Эми.
— Эми, дитя мое, поди сюда. Я кое-что хочу сказать тебе.
Он слегка приподнялся на своем невысоком ложе, а она опустилась на колени, припала лицом к его плечу и взяла его руки в свои. О! Какой прилив отеческих чувств испытывал он в эту минуту — и как отец своих детей и как Отец Маршалси!
— Дитя мое, у тебя здесь нелегкая жизнь. Ни товарок, ни развлечений, да и забот, пожалуй, немало.
— Не думайте об этом, родной. Я никогда не думаю.
— Ты знаешь мое положение, Эми. Немногое я мог для тебя сделать, но я сделал все, что мот.
— Да, мой дорогой, — отозвалась она, целуя его. — Знаю, все знаю.
— Вот уже двадцать третий год я живу здесь, — сказал он и не то всхлипнул, не то невольно вздохнул в порыве благородного умиления собственной добродетелью. — Это все, что я мог сделать для своих детей, — и я это сделал. Эми? дружочек, ты самое любимое мое дитя; ты у меня всегда была на первом месте — все, что я делал для тебя, моя девочка, я делал от души и никогда не роптал.
Одна лишь высшая Мудрость, у которой есть ключ ко всем сердцам и ко всем тайнам, знает, верно, до чего может дойти в своем самообольщении человек — особенно человек, впавший в ничтожество, как этот. Но довольно было бы видеть, как он, спокойный, безмятежный, по-своему величавый, лежал, смежив влажные ресницы, перед беззаветно любящей дочерью, которой он не готовил другого приданого, кроме своей жалкой жизни, придавившей ее плечи непосильными тяготами, и которая своей любовью спасла то, что еще было в нем человеческого.
Эта дочь ни в чем не сомневалась, не задавалась никакими вопросами; она рада была видеть его с сиянием вокруг головы. Бедный, милый, родной, голубчик, самый добрый, самый лучший на свете — вот слова, которыми она убаюкивала его; других слов у нее для него не было.
Она так и не ушла в эту ночь. Точно чувствуя за собой вину, которую только нежностью можно было кое-как загладить, она до рассвета просидела у его изголовья, порой тихонько целуя его или вполголоса называя ласковыми именами. Иногда она отстранялась так, чтобы отсвет догорающего огня падал на его лицо, и старалась увидеть это лицо таким, каким оно было в дни счастья и благополучия, — и каким, по его словам (глубоко запавшим ей в душу), может снова стать в страшный час кончины. Но тотчас же, отгоняя пугающую мысль, становилась на колени и горячо молилась: «Господи, пощади его дни! Сохрани мне его! Смилуйся, господи, над моим бедным, несчастным, исстрадавшимся отцом — ведь хоть он уж и не тот, что был, но я так люблю, так люблю его!»
Только когда в окно забрезжило утро, защита от мрачных дум и источник надежды, она еще раз на прощанье поцеловала спящего и выскользнула за дверь. Спустившись с лестницы и перебежав пустой двор, она взобралась к себе на чердак и распахнула окошко своей каморки. За тюремной стеной рисовались на чистом утреннем небе городские крыши, над которыми еще не клубился дым, и вершины далеких холмов. Она выглянула из окна; железные острия на восточной стене сперва заалели по краям, потом зловещим пурпурным узором вырезались на огненном фоне встающего солнца. Никогда еще эти острия не казались ей такими колючими и грозными, прутья решетки такими массивными, тюремный двор таким тесным и мрачным. Она попыталась представить себе восход солнца над полноводной рекой, или над морскими просторами, или над ширью полей, или над лесом, полным шелеста деревьев и пения пробуждающихся птиц. Потом снова заглянула в глубь могилы, над которой только что взошло солнце, — могилы, в которой двадцать три года был заживо погребен ее отец; сердце ее содрогнулось от горя и жалости, и она воскликнула:
— Да, да, я никогда в жизни его по-настоящему не видела.
Глава XX
В сферах Общества
Если бы Юный Джон Чивери возымел желание (и обладал способностями) написать сатиру в осмеяние джентльменской спеси, ему не пришлось бы далеко ходить за живыми примерами. Он нашел бы их без труда в семействе своей возлюбленной, в лице ее доблестного братца и изящной сестрицы, которые, кичась высоким происхождением, не брезговали низкими поступками и всегда были готовы занимать или попрошайничать у тех, кто беднее их, есть чей угодно хлеб, тратить чьи угодно деньги, пить из чьей угодно чашки, да еще и разбить ее потом. Сумей он изобразить все неприглядные дела этих отпрысков благородной фамилии, сделавших из своего благородства некий жупел для устрашения тех, чьей помощью они пользовались, Юный Джон заслужил бы славу сатирика первой величины.
Тип употребил во благо возвращенную ему свободу, поступив маркером в бильярдную. Его так мало интересовало, кому он обязан своей свободой, что все наставления, данные Кленнэмом Плорнишу, оказались совершенно излишними. Ему оказали любезность, он любезно воспользовался этой любезностью, и на том счел дело поконченным. Выйдя за ворота тюрьмы, так легко перед ним распахнувшиеся, он поступил маркером в бильярдную, и теперь время от времени являлся на кегельбане Маршалси в зеленой ньюмаркетской куртке[52] с блестящими пуговицами (куртка была старая, подержанная, пуговицы новые) и угощался пивом за счет пансионеров.