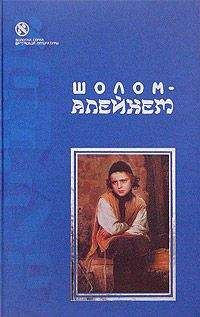Шолом Алейхем - С ярмарки
Это был первый вылет нашего героя в широкий мир и первый приезд в большой город. Остановился он в заезжем доме Алтера Каневера, в нижней части города, называемой Подолом, где разрешалось жить евреям. Я говорю – «разрешалось жить евреям», но должен тут же оговориться, чтоб не подумали, упаси бог, что любому еврею разрешалось там жить. Ничего подобного. Там могли жить только те евреи, которые имели «правожительство». Например, ремесленники, приказчики, служившие у купцов первой гильдии, николаевские солдаты и те, чьи дети обучались в гимназии. Все прочие евреи пробирались сюда контрабандой, на короткий срок, и жили в великом страхе, пользуясь милостью дворника, «господина околоточного» или «господина пристава». И то до поры до времени, до первой облавы, когда солдаты и жандармы нападали посреди ночи на еврейские заезжие дома. На их языке это называлось «произвести ревизию». Если они обнаруживали контрабандный товар, то есть евреев без «правожительства», то последних сгоняли, словно скот, в полицию и выпроваживали с большим парадом, то есть вместе с ворами отправляли по этапу домой, в те города, где они прописаны.
Это, однако, никого не удерживало от поездки в Киев. Как гласит русская пословица: «Волков бояться – в лес ре ходить». Облав действительно боялись, но в Киев ездили. О том, чтобы «ревизия» сошла благополучно и чтобы, упаси бог, не обнаружили «запрещенного товара», заботился сам хозяин заезжего дома. Как же он это делал? Очень просто: хозяин заезжего дома подмазывал кого следует. Он заранее знал, когда нагрянет «ревизия», и находил выход из положения. «Запрещенный товар» засовывался на чердак, в погреб, в платяной шкаф, в сундук, а иной раз в такое место, что никому и в голову не придет искать там живого человека. Забавнее всего, что, вылезши на свет божий, те самые люди, которые лежали в такого рода тайниках, старались превратить всю историю в шутку, как будто они дети, игравшие в прятки, а в худших случаях, вздохнув, утешали тебя: «Э, мы переживали времена и похуже, бывали тираны и покруче!»
Автор этого жизнеописания в первый свой приезд в великий святой Киев-град имел честь и удовольствие вместе с еще несколькими евреями дрожать на чердаке заезжего дома Алтера Каневера. Было это в темную зимнюю ночь. Так как «ревизия» оказалась внезапной, то мужчины едва успели натянуть на себя, извините за выражение, подштанники, а женщины – нижние юбки. Счастье, что «ревизия» на этот раз длилась недолго, не то бы они совершенно закоченели на чердаке. Зато какая наступила радость, когда хозяин заезжего дома Алтер Каневер, почтенный человек с белой бородой, обратился к ним со странной речью в рифму:
– Евреи, будьте как дома, вылезайте из соломы! Черти убрались натощак, освобождайте чердак!
Переполох закончился общим весельем – подали самовар, пили чай с сушками и рассказывали всяческие небылицы. Веселье, однако, было омрачено тем, что хозяин заезжего дома наложил на своих постояльцев нечто вроде контрибуции – полтора целковых с головы, чтобы покрыть расходы по ревизии. Не помогли даже протесты женщин. Они, бедняжки, доказывали, что с них ничего не следует брать, так как они приехали сюда не ради удовольствия, не ради дел и заработков. Они приехали к профессору лечиться.
И пошли тут у них разговоры о докторах и профессорах. Каждая рассказывала о своей болезни и называла профессора, к которому она приехала. Оказывается, все приехали к одному и тому же профессору и у всех одна и та же болезнь. Каким бы недугом ни страдала одна, точно такой же оказывался и у всех остальных женщин. Но удивительнее всего, что женщины, сколько ни есть, говорили разом и все же ухитрялись слышать друг друга. Некоторые зарисовки этой ночи автор настоящих воспоминаний использовал впоследствии в одном из ранних своих произведений, назвав его «Первый вылет» (история о том, как два юных птенца впервые вылетают на свет божий)-
Так наш герой провел первую ночь в великом святом Киев-граде. Наутро он пошел представляться великим светилам, что сияют нам с высоких небес, иначе говоря, нашим знаменитостям, просветителям, поэтам, из которых ему известен был в Киеве пока лишь один. Это был популярный поэт, писавший на древнееврейском языке под псевдонимом Иегалел (Восславленный). К нему-то и хотел добраться герой, и добрался. Но не так легко, как это могло показаться с первого взгляда. После долгих расспросов герой узнал, что в Киеве существует миллионер Бродский, а у этого Бродского на Подоле мельница. При мельнице есть контора. В этой конторе служат разного рода люди. Среди них есть кассир» фамилия которого Левин. Этот-то И. Л. Левин и есть знаменитый поэт Иегалел. Вот тут и начинается канитель.
Не каждый может получить доступ на мельницу Бродского. Туда может попасть только тот, кто имеет какое-нибудь отношение к зерну, к муке. «Кого вам нужно?» – «Известного поэта Иегалела». – «Здесь нет такого». Какой-то маклер по пшенице нашел даже повод для плоской остроты. Он спросил юношу: «Разве сегодня начало месяца, что вы читаете «Да прославится».
Но господь сотворил чудо – вошел долговязый, худой человек с длинным носом, морщинистым лицом и с несколькими желтыми пеньками во рту вместо зубов. В рваном пальто и выцветшей шляпчонке, с огромным дождевым зонтиком из серой парусины в руках, он походил на всемирно известного Дон Кихота. Оказалось, что этот Дон Кихот всего-навсего бухгалтер, но работает он на мельнице вместе с знаменитым поэтом Иегалелом. Узнав, кого спрашивает юноша, долговязый взял его за руку и, не говоря ни слова, повел его в контору. Там он поставил в угол свой большой дождевой зонтик, сбросил с себя пальто и остался в коротком пиджачке с протертыми локтями; ноги у него были выгнуты колесом, иначе он был бы еще выше. После нескольких обычных фраз, которыми люди обмениваются при первом знакомстве, длинный бухгалтер внезапно вырос в глазах юноши еще на целую голову. Оказалось, что он был лично знаком с человеком, который в то время казался юноше чуть ли не посланцем божьим, ни более, ни менее как с самим Богровым, автором книги «Записки еврея». Бухгалтер служил вместе с ним в одном банке в Симферополе.
– Вот как? Значит, вы знали Богрова лично? – с воодушевлением переспросил юноша.
– Чудак-человек! Вам же говорят, что мы с ним служили в одном банке, в Симферополе, а вы говорите!..
– И вы сами с ним разговаривали?
– Так же, как вот теперь с вами. Не только разговаривали, но даже в карты играли, в преферанс. Любит картишки Григорий Исакович, ох, любит!.. То есть он не картежник, но любит перекинуться в картишки, в преферансик сыграть… Почему бы и нет? Ох, этот преферансик!..
Подняв тощую, костлявую руку с протертым локтем, он сморщил свое и без того сморщенное лицо и, описав носом полукруг, обнажил желтые пеньки своих бывших зубов. Это должно было означать улыбку. Но тут же он снова стал серьезен и, поглядев куда-то вдаль, сквозь очки, почесал у себя за воротником и заговорил о Богрове с уважением:
– Большой человек – Григорий Исакович! Шутка ли сказать, Григорий Исакович! Ого, очень большой человек! Много выше вашего знаменитого поэта Иегалела. Этот крошечный… совсем крошечный! – И он показал рукой, какой Иегалел крошечный.
В это мгновенье отворилась дверь и в комнату вошел маленький, плотный человечек с круглым брюшком и косящими глазами. На первый взгляд рядом с долговязым и худым Дон Кихотом он выглядел как Санчо-Панса, его оруженосец. Не поздоровавшись, Санчо-Панса пробежал мимо собеседников и скрылся за решеткой в соседней комнате.
– Это он и есть, ваш поэт Иегалел. Можете пройти к нему, если хотите. Не такой важный барин…
Из этих слов, а также из предыдущего сравнения с Богровым, было ясно, что бухгалтер с кассиром живут, как кошка с мышью. Но от этого поэт ничего не потерял в глазах своего пламенного поклонника. В трепете, с бьющимся сердцем Шолом, глубоко почтительный, переступил порог соседней комнатки. Известного поэта он застал в поэтической позе со скрещенными на груди руками, ни дать ни взять – Александр Пушкин или, по Меньшей мере, Миха-Иосиф Лебензон. Он был, видно, в весьма приподнятом поэтическом настроении, так как расхаживал взад и вперед по комнате со скрещенными на груди руками, почти не замечал своего юного почитателя и на его приветствие ответил только сердитым взглядом косящих глаз. Пригласить гостя сесть, расспросить, кто он, откуда, зачем пришел, здесь явно не собирались.
Наивный почитатель был уверен, что таковы все поэты, что Александр Пушкин тоже не отвечал на приветствия. Парню, конечно, не доставляло удовольствия стоять болваном у двери, но ничего не поделаешь. Обидеться ему и в голову не приходило – ведь перед ним не простой смертный, а поэт. Зато несколько лет спустя, когда наивный почитатель сам стал писателем, и не только писателем, но и редактором ежегодника («Еврейская народная библиотека»), и поэт Иегалел принес ему фельетон – его бывший почитатель и нынешний редактор Шолом-Алейхем напомнил ему их первую встречу и изобразил вышеописанную сцену. Поэт покатывался со смеху.