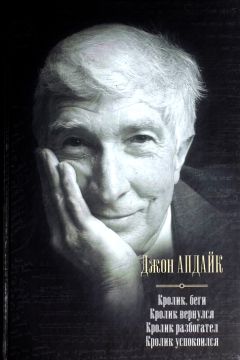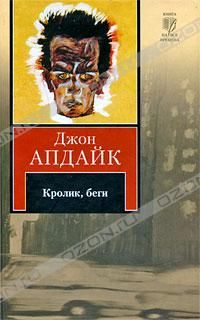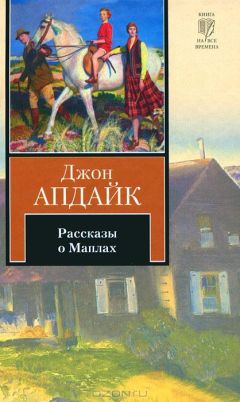Джон Апдайк - Кролик, беги
«Господь – Пастырь мой! Я ни в чем не буду нуждаться...»
Голос Экклза под открытым небом звучит слабо. Далекий стрекот механической косилки благочестиво умолкает. Кролик трепещет от волнения и силы, он уверен, что его дочка вознеслась на небо. Эта уверенность заполняет декламацию Экклза, как живое тело кожу. «Господь милосердный, чей сын возлюбленный взял в руки свои маленьких детей и благословил их, смилуйся над нами, не отвергни нашей молитвы, прими душу невинного младенца и даруй ей Твою великую милость и вечную любовь, укажи нам путь истинный в царствие небесное через сына твоего Иисуса Христа Господа нашего. Аминь».
– Аминь, – шепотом повторяет миссис Спрингер.
Да. Так и есть. Он чувствует, что все они, чьи головы окружают его, неподвижные, как надгробья, – что все они слились воедино с травой, с тепличными цветами, все – служители похоронной конторы, невидимый кладбищенский сторож, который остановил свою косилку, – все собрались здесь воедино, чтобы придать его некрещеному младенцу силы допрыгнуть до неба.
Поворачивается электрический выключатель, стропы начинают опускать гроб в могилу, потом снова останавливаются. Экклз чертит на крышке крест из песка. Песчинки одна за другой скатываются с резной крышки в яму. Чья-то розовая рука бросает измятые лепестки. «Осени благословением своим всех скорбящих, прими на плечи свои все их бремя...»
Стропы снова начинают скрипеть. Стоящая рядом с Кроликом Дженис шатается. Он берет ее под руку и даже через материю ощущает жар. Легкий ветерок надувает и колышет балдахин. К ноздрям поднимается запах цветов. «...И святой дух благослови тебя и храни тебя, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
Экклз закрывает молитвенник. Отец Гарри и отец Дженис, стоящие рядом, поднимают глаза и моргают. Гробовщики начинают возиться со своим снаряжением, вытаскивают из могилы стропы. Все присутствующие выходят на солнце. Прими на плечи свои все их бремя... Небо приветствует его. Он ощущает какой-то странный прилив сил. Словно он долго ползал по темной пещере и наконец на самом краю громоздящихся утесов увидел светлое пятнышко. Он оборачивается, и лицо Дженис, отупевшее от горя, застит ему свет.
– Не смотри на меня, – говорит он. – Не я ее убил.
Слова слетают с его уст очень четко, под стать той простоте, которую он теперь чувствует во всем. Головы, тихонько беседовавшие друг с другом, разом поворачиваются на столь неожиданный, жесткий голос.
Они не правильно его поняли. Он хочет всего лишь внести ясность. Он объясняет головам:
– Вы все ведете себя так, словно это я сделал. Меня там и близко не было. Это все она.
Он оборачивается к ней, и ее лицо, обмякшее, как от пощечины, кажется ему безнадежно далеким.
– Ладно, все в порядке, – говорит он ей. – Ведь ты же не нарочно.
Он пытается взять ее за руку, но она вырывает руку, словно из капкана, и смотрит на родителей, которые тотчас бросаются к ней.
У него горит лицо. Он страшно смущен. Его сердце было полно прощенья, но теперь в нем одна только ненависть. Он ненавидит ее лицо. Она слепа. Она могла разделить с ним истину, обыкновенную простую истину, но отвернулась. Он видит, что даже на лице его родной матери изобразился ужас, она побледнела от потрясения и стеной стоит против него. Сначала она спросила, что с ним сделали, а теперь сама делает то же самое. Удушающее чувство несправедливости ослепляет его. Он поворачивается и бежит.
В гору, торжествуя. Он лавирует между надгробными камнями. Среди могил сверкают желтые, как масло, одуванчики. Сзади слышен голос Экклза:
– Гарри! Гарри!
Он чувствует, что Экклз за ним гонится, но не оборачивается.
Он срезает углы между камнями и по газонам мчится к лесу. До темного полумесяца деревьев дальше, чем казалось возле могилы. Тело тяжелеет: склон круто уходит вверх. Однако мягкая кладбищенская земля подбадривает его, отлогие бугры пружинят; это напоминает бег по окруженной густой толпой зрителей спортплощадке. Он бросается в протянутые руки леса и движется к центру полумесяца. Но лес не такое надежное укрытие, как он думал. Если обернуться назад, то сквозь листву внизу видно кладбище, где возле маленького зеленого балдахина сгрудились человеческие существа, которые он там оставил. Экклз уже на полдороге между ними и Кроликом. Он остановился. Его черная грудь вздымается. Широко расставленные глаза неотрывно вглядываются в лес. Остальные – толстые обрубки в черном суетятся, маневрируют, строят планы, испытывают силы друг друга, поддерживают друг друга. Их бледные лица посылают немые сигналы в сторону леса, с отвращением или отчаянием отворачиваются, потом опять, словно зачарованные, подают сигналы прямо в заходящее солнце. Один только взгляд Экклза остается неподвижным. Наверно, он собирается с духом, чтобы вновь пуститься в погоню.
Кролик нагибается и бежит зигзагами. Продираясь сквозь кусты и молодые деревья на опушке леса, он исцарапал лицо и руки. Дальше лес становится реже. Сосны заглушают всю остальную растительность. Их коричневые иглы окутывают неровную почву скользким покровом, солнечный свет узкими щелками падает на этот мертвый настил. Здесь сумрачно, но жарко, как на чердаке; невидимое вечернее солнце припекает зеленую черепицу над головой. Мертвые нижние ветви торчат на уровне глаз. Лицо и руки горят от царапин. Он оборачивается посмотреть, остался ли кто-нибудь позади. Никто его не преследует. Вдали, на самом конце соснового туннеля, в котором он стоит, сверкает что-то зеленое – возможно, это зелень кладбища, но она кажется такой же далекой, как лоскутья неба над вершинами деревьев. Оборачиваясь, он теряет ориентацию. Однако вначале стволы стоят ровными рядами, которые ведут его за собой, и он все время поднимается в гору. Если пройти еще дальше вверх, то в конце концов попадешь на прогулочную дорожку, проложенную по гребню горы, чтобы можно было с высоты любоваться окрестным видом. Вернуться к остальным можно только спустившись вниз.
Деревья уже не маршируют рядами, а тесно прижимаются друг к другу. Они здесь более старые, тьма под ними плотнее, а склон круче. Из-под игольчатого одеяла торчат заросшие лишайником камни; рухнувшие стволы растопырили над тропинкой причудливые когтистые лапы. Там, где в крыше вечнозеленых растений образовалась дыра, буйно разрослись пахучие ягодники и желтые травы. Эти прогалины – некоторые из них достаточно велики, чтобы поймать со склона горы косые лучи заходящего солнца, – еще больше сгущают окружающую тьму, и когда он на них останавливается, то из-за внезапно наступившей тишины до его сознания доходит шепот, наполняющий коричневые туннели вокруг. Деревья настолько высоки, что не видно ни малейших признаков цивилизации, даже никаких расчищенных участков. Окруженный морем света, он начинает ощущать страх. Он слишком бросается в глаза, медведи и другие безымянные чудища, которые шепчутся в чащобе, ясно его видят. Чем висеть беззащитным в этих световых колодцах, лучше броситься навстречу опасности через камни, гниющие стволы и скользкие иглы. Насекомые летят за ним во тьму, запах его пота – неодолимая приманка. У него теснит в груди, болят ноги: поднимаясь в гору, он то и дело проваливается в ямы и натыкается на плоские камни, скрытые под иглами. Он снимает тесный синий пиджак и, свернув его в комок, сует под мышку. Он беспрестанно борется с желанием оглянуться, но сзади нет ничего, кроме глухой мертвой тишины леса, и лишь его страх населяет извилистое пространство между стволами живой увертливой угрозой – едва он успевает повернуться, как она всякий раз ухитряется скрыться из поля его зрения. Не надо вертеть головой. Он сам себя пугает. В детстве он частенько поднимался по этим лесистым склонам. Но может быть, в детстве его защищало что-то, чего теперь нет; никак не верится, чтобы тогда леса были такие же темные. Они тоже выросли. Тьма совершенно противоестественная; тонкие, как паутина, сучья, словно пальцы, беспрерывно шарят по лицу; тьма средь бела дня, назло небу, словно немая обезьянка, она перепрыгивает с верхушки на верхушку прямо у него над головой.
Оттого что он все время нагибается, болит поясница. В ту ли сторону он идет? В детстве он никогда не входил в лес со стороны кладбища. Наверно, глупо карабкаться вперед по круче вдоль самого гребня горы, когда всего в нескольких ярдах слева проходит дорога. Он забирает влево, пытаясь двигаться по прямой; шепот леса нарастает, и в сердце теплится надежда так и есть, дорога близко. Он торопливо продирается сквозь заросли, ожидая на каждом шагу увидеть дорогу, яркие белые столбики и блеск стремглав проносящегося металла. Вдруг склон обрывается у него под ногами. Как вкопанный он в ужасе останавливается на краю крутого обрыва; ближайший склон покрыт мохнатыми телами мертвых деревьев, зацепившихся за стволы, которым удалось устоять на крутизне и которые отбрасывают в ущелье тень, глубокую, как готовые вот-вот угаснуть сумерки. В этом мраке маячит какой-то прямоугольник, и Кролика осеняет догадка, что на дне лощины находятся погреб и осевшие, сложенные из песчаника стены заброшенного дома. Он с досадой видит, что заблудился, и снова идет вниз; вдобавок ко всему в ушах раздается ужасающий грохот, словно это полуразвалившееся свидетельство вторжения человека в мир слепой жизни бьет в колокола, чей звон доносится до самого края вселенной. Мысль о том, что эта земля была когда-то обитаемой, что ее топтали, расчищали и возделывали люди, наполняет воздух черными призраками, которые карабкаются к нему по заросшему папоротниками склону, как дети, вылезающие из могил. Наверно, тут жили дети, толстые девочки в ситцевых платьях ходили по воду к роднику, играя, делали зарубки на деревьях, а потом старились на досках, настланных поверх погреба, и умирали, бросая из окна последний взгляд на тот самый обрыв, где стоит Гарри. Ему кажется, что здесь он еще заметнее и беззащитнее, чем на маленьких солнечных лужайках; у него появляется смутное чувство, будто он освещен огромной искрой, посредством которой слепое нагромождение мертвой материи познает самое себя, искрой, высеченной столкновением двух противостоящих друг другу миров, схватившихся по велению какого-то страшного божества. У него переворачивается все внутри, уши внезапно открываются, и он слышит голос. Он снова лезет в гору, с шумом ломая ветви в сгущающейся тьме, стараясь заглушить голос неизвестного существа, которое, перелетая с дерева на дерево в густой тени, пытается что-то ему крикнуть. В обманчивом свете коварная круча, извиваясь и корчась, ускользает от него, как живая.