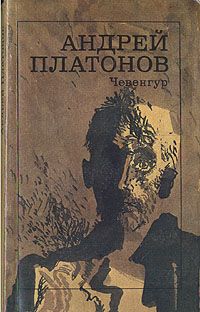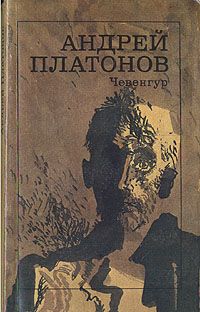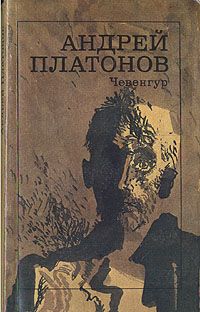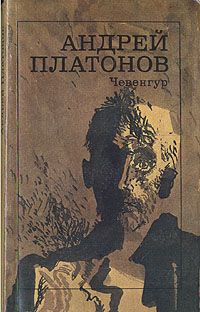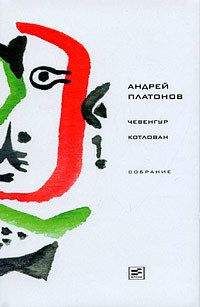Андрей Платонов - Чевенгур
Копенкин ходил по Чевенгуру один и проводил время в рассмотрении пролетариев и прочих, чтобы узнать — дорога ли им хоть отчасти Роза Люксембург, но они про нее совсем не слышали, словно Роза умерла напрасно и не для них.
Пролетарии и прочие, прибыв в Чевенгур, быстро доели пищевые остатки буржуазии и при Копенкине уже питались одной растительной добычей в степи. В отсутствие Чепурного Прокофий организовал в Чевенгуре субботний труд, предписав всему пролетариату пересоставить город и его сады; но прочие двигали дома и носили сады не ради труда, а для оплаты покоя и ночлега в Чевенгуре и с тем, чтобы откупиться от власти и от Прошки. Чепурный, возвратившись из губернии, оставил распоряжение Прокофия на усмотрение пролетариата, надеясь, что пролетариат в заключение своих работ разберет дома, как следы своего угнетения, на ненужные части и будет жить в мире без всякого прикрытия, согревая друг друга лишь своим живым телом. Кроме того — неизвестно, настанет ли зима при коммунизме или всегда будет летнее тепло, поскольку солнце взошло в первый же день коммунизма и вся природа поэтому на стороне Чевенгура.
Шло чевенгурское лето, время безнадежно уходило обратно жизни, но Чепурный вместе с пролетариатом и прочими остановился среди лета, среди времени и всех волнующихся стихий и жил в покое своей радости, справедливо ожидая, что окончательное счастье жизни вырабатывается в никем отныне не тревожимом пролетариате. Это счастье жизни уже есть на свете, только оно скрыто внутри прочих людей, но и находясь внутри — оно все же вещество, и факт, и необходимость.
Один Копенкин ходил по Чевенгуру без счастья и без покойной надежды. Он бы давно нарушил чевенгурский порядок вооруженной рукой, если бы не ожидал Александра Дванова для оценки всего Чевенгура в целом. Но чем дальше уходило время терпения, тем больше трогал одинокое чувство Копенкина чевенгурский класс. Иногда Копенкину казалось, что чевенгурским пролетариям хуже, чем ему, но они все-таки смирнее его, быть может, потому, что втайне сильнее; у Копенкина было утешение в Розе Люксембург, а у пришлых чевенгурцев никакой радости не было впереди, и они ее не ожидали, довольствуясь тем, чем живут все неимущие люди — взаимной жизнью с другими одинаковыми людьми, спутниками и товарищами своих пройденных дорог.
Он вспомнил однажды своего старшего брата, который каждый вечер уходил со двора к своей барышне, а младшие братья оставались одни в хате и скучали без него; тогда их утешал Копенкин, и они тоже постепенно утешались между собой, потому что это им было необходимо. Теперь Копенкин тоже равнодушен к Чевенгуру и хочет уехать к своей барышне — Розе Люксембург, а чевенгурцы не имеют барышни, и им придется остаться одним и утешаться между собой.
Прочие как бы заранее знали, что они останутся одни в Чевенгуре, и ничего не требовали ни от Копенкина, ни от ревкома
— у тех были идеи и распоряжения, а у них имелась одна необходимость существования. Днем чевенгурцы бродили по степям, рвали растения, выкапывали корнеплоды и досыта питались сырыми продуктами природы, а по вечерам они ложились в траву на улице и молча засыпали. Копенкин тоже ложился среди людей, чтобы меньше тосковать и скорее проживалось время. Изредка он беседовал с худым стариком, Яковом Титычем, который, оказывается, знал все, о чем другие люди лишь думали или даже не сумели подумать; Копенкин же с точностью ничего не знал, потому что переживал свою жизнь, не охраняя ее бдительным и памятливым сознанием.
Яков Титыч любил вечерами лежать в траве, видеть звезды и смирять себя размышлением, что есть отдаленные светила, на них происходит нелюдская неиспытанная жизнь, а ему она недостижима и не предназначена; Яков Титыч поворачивал голову, видел засыпающих соседей и грустил за них: «И вам тоже жить там не дано, — а затем привставал, чтобы громко всех поздравить: — Пускай не дано, зато вещество одинаковое: что я, что звезда, — человек не хам, он берет не по жадности, а по необходимости». Копенкин тоже лежал и слышал подобные собеседования Якова Титыча со своей душой. «Других постоянно жалко, — обращался к своему вниманию Яков Титыч, — взглянешь на грустное тело человека, и жалко его — оно замучается, умрет, и с ним скоро расстанешься, а себя никогда не жалко, только вспомнишь, как умрешь и над тобой заплачут, то жалко будет плачущих одних оставлять».
— Откуда, старик, у тебя смутное слово берется? — спросил Копенкин. — Ты же классового человека не знаешь, а лежишь — говоришь…
Старик замолчал, и в Чевенгуре тоже было молчаливо.
Люди лежали навзничь, и вверху над ними медленно открывалась трудная, смутная ночь, — настолько тихая, что оттуда, казалось, иногда произносились слова, и заснувшие вздыхали им в ответ.
— Чего ж молчишь, как темнота? — переспросил Копенкин. — О звезде горюешь? Звезды тоже — серебро и золото, не наша монета.
Яков Титыч своих слов не стыдился.
— Я не говорил, а думал, — сказал он. — Пока слово не скажешь, то умным не станешь, оттого что в молчании ума нету — есть одно мученье чувства…
— Стало быть, ты умный, раз говоришь, как митинг? — спросил Копенкин.
— Умный я стался не оттого…
— А отчего ж? Научи меня по-товарищески, — попросил Копенкин.
— Умный я стался, что без родителей, без людей человека из себя сделал. Сколько живья и матерьялу я на себя добыл и пустил
— сообрази своим умом вслух.
— Наверно, избыточно! — вслух подумал Копенкин.
Яков Титыч сначала вздохнул от своей скрытой совести, а потом открылся Копенкину:
— Истинно, что избыточно. На старости лет лежишь и думаешь, как после меня земля и люди целы? Сколько я делов поделал, сколько еды поел, сколько тягостей изжил и дум передумал, будто весь свет на своих руках истратил, а другим одно мое жеваное осталось. А после увидел, что и другие на меня похожи, и другие с малолетства носят свое трудное тело, и всем оно терпится.
— Отчего с малолетства? — не понимал Копенкин. — Сиротою, что ли, рос, иль сам отец от тебя отказался?
— Без родителя, — сказал старик. — Вместо него к чужим людям пришлось привыкать и самому без утешения всю жизнь расти…
— А раз у тебя отца не было, чего ж ты людей на звезды ценишь? — удивлялся Копенкин. — Люди тебе должны быть дороже: кроме них, тебе некуда спрятаться, твой дом посреди их на ходу стоит… Если б ты был настоящим большевиком, то ты бы все знал, а так — ты одна пожилая круглая сирота.
В середине города из первоначальной тишины началось стенанье ребенка, и все неспавшие его услышали, — до того тихо находилась ночь на земле и сама земля была под тою ночью как в отсутствии. И вслед мучению ребенка раздалось еще два голоса — матери того ребенка и тревожное ржание Пролетарской Силы. Копенкин сейчас же поднялся на ноги и расхотел спать, а привычный к несчастью старик сказал:
— Маленький плачет, — не то мальчик, не то девочка.
— Маленькие плачут, а старенькие лежат, — сердито обвинил Копенкин и ушел попоить лошадь и утешить плачущего.
Дорожная нищенка, явившаяся в Чевенгур отдельно от прочих, сидела в темных сенях, держала коленями и руками своего ребенка и часто дышала на него теплом из своего рта, чтобы помочь ребенку своей силой.
Ребенок лежал тихо и покорно, не пугаясь мучений болезни, зажимающих его в жаркую одинокую тесноту, и лишь изредка стенал, не столько жалуясь, сколько тоскуя.
— Что ты, что ты, мой милый? — говорила ему мать. — Ну, скажи мне, где у тебя болит, я тебя там согрею, я тебя туда поцелую.
Мальчик молчал и глядел на мать полуприкрытыми, позабывшими ее глазами; и сердце его, уединенное в темноте тела, билось с такой настойчивостью, яростью и надеждой, словно оно было отдельным существом от ребенка и его другом, иссушающим скоростью своей горячей жизни потоки гнойной смерти; и мать гладила грудь ребенка, желая помочь его скрытому одинокому сердцу и как бы ослабляя струну, на которой звучала сейчас тонкая жизнь ее ребенка, чтобы эта струна не затихла и отдохнула.
Сама мать была не только чувствительна и нежна сейчас, но и умна и хладнокровна — она боялась, как бы ей чего не забыть, не опоздать с той помощью ребенку, которую она знает и умеет.
Она зорко вспоминала всю жизнь, свою и виденную чужую, чтобы выбрать из нее все то, что нужно сейчас для облегчения мальчика, — и без людей, без посуды, лекарств и белья, во встреченном, безымянном для нее городе мать-нищая сумела помочь ребенку, кроме нежности, еще и лечением; вечером она очистила ребенку желудок теплой водой, нагрела его тело припарками, напоила сахарной водой для питания и решила не засыпать, пока мальчик еще будет жив.
Но он не переставал мучиться, руки матери потели от нагревающегося тела ребенка, и он сморщил лицо и застонал от обиды, что ему тяжко, а мать сидит над ним и ничего ему не дает. Тогда мать дала ему сосать грудь, хотя мальчику уже шел пятый год, и он с жадностью начал сосать тощее редкое молоко из давно опавшей груди.