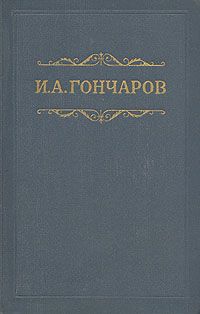Иван Гончаров - Обыкновенная история
– Так печь-то у вас и не топилась? Ну как не похудеть! – промолвил Антон Иваныч, вставая из-за стола.
«Благодарю тебя, боже мой, – начал он вслух, с глубоким вздохом, – яко насытил мя еси небесных благ… что я! замололся язык-то: земных благ, – и не лиши меня небесного твоего царствия».
– Убирайте со стола: господа не будут кушать. К вечеру приготовьте другого поросенка… или нет ли индейки? Александр Федорыч любит индейку; он, чай, проголодается. А теперь принесите-ка мне посвежее сенца в светелку: я вздохну часок-другой; там к чаю разбудите. Коли чуть там Александр Федорыч зашевелится, так того… растолкайте меня.
Восстав от сна, он пришел к Анне Павловне.
– Ну что, Антон Иваныч? – спросила она.
– Ничего, матушка, покорно благодарю за хлеб за соль… и уснул так сладко; сено такое свежее, душистое…
– На здоровье, Антон Иваныч. Ну, а что говорит Евсей? Вы спрашивали?
– Как не спрашивать! Все выведал: пустое! все поправится. Дело-то все, выходит, оттого, что пища там была, слышь, плоха.
– Пища?
– Да; судите сами: огурцы сорок копеек десяток, поросенок два рубля, а кушанье все кондитерское – и не наешься досыта. Как не похудеть! Не беспокойтесь, матушка, мы его поставим здесь на ноги, вылечим. Вы велите-ка заготовить побольше настойки березовой; я дам рецепт; мне от Прокофья Астафьича достался; да утром и вечером и давайте по рюмке или по две, и перед обедом хорошо; можно со святой водой… у вас есть?
– Есть, есть: вы же привезли.
– Да, ведь в самом деле я. Кушанья выбирайте пожирнее. Я уж к ужину велел поросенка или индейку зажарить.
– Благодарствуйте, Антон Иваныч.
– Не на чем, матушка! Не велеть ли еще цыплят с белым соусом?
– Я велю…
– Зачем вам самим? а я-то на что? похлопочу… дайте мне.
– Похлопочите, помогите, отец родной.
Он ушел, а она задумалась.
Женский инстинкт и сердце матери говорили ей, что не пища главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно выведывать намеками, стороной, но Александр не понимал этих намеков и молчал. Так прошли недели две-три. Поросят, цыплят и индеек пошло на Антона Иваныча множество, а Александр все был задумчив, худ, и волосы не росли.
Тогда Анна Павловна решилась поговорить с ним напрямки.
– Послушай, друг мой, Сашенька, – сказала она однажды, – вот уж с месяц, как ты живешь здесь, а я еще не видала, чтоб ты улыбнулся хоть раз: ходишь словно туча, смотришь в землю. Или тебе ничто не мило на родной стороне? Видно, на чужой милее; тоскуешь по ней, что ли? Сердце мое надрывается, глядя на тебя. Что с тобой сталось? Расскажи ты мне: чего тебе недостает? я ничего не пожалею. Обидел ли кто тебя: я доберусь и до того.
– Не беспокойтесь, маменька, – сказал Александр, – это так, ничего! я вошел в лета, стал рассудительнее, оттого и задумчив…
– А худ-то отчего? а волосы-то где?
– Я не могу рассказать отчего… всего не перескажешь, что было в восемь лет… может быть, и здоровье немного, расстроилось…
– Что ж у тебя болит?
– Болит и тут, и здесь. – Он указал на голову и сердце. Анна Павловна дотронулась рукой до его лба.
– Жару нет, – сказала она. – Что ж бы это такое было? стреляет, что ли, в голову?
– Нет… так…
– Сашенька! пошлем за Иваном Андреичем.
– Кто это Иван Андреич?
– Новый лекарь; года два как приехал. Дока такой, что чудо! Лекарств почти никаких не прописывает; сам делает какие-то крохотные зернышки – и помогают. Вон у нас Фома животом страдал; трои сутки ревмя ревел: он дал ему три зернышка, как рукой сняло! Полечись, голубчик!
– Нет, маменька, он не поможет мне: это так пройдет.
– Да отчего же ты скучаешь? Что это за напасть такая?
– Так…
– Чего тебе хочется?
– И сам не знаю; так скучаю.
– Экое диво, господи! – сказала Анна Павловна. – Пища, ты говоришь, тебе нравится, удобства все есть, и чин хороший… чего бы, кажется? а скучаешь! Сашенька, – сказала она, помолчав, тихо, – не пора ли тебе… жениться?
– Что вы! нет, я не женюсь.
– А у меня есть на примете девушка – точно куколка: розовенькая, нежненькая; так, кажется, из косточки в косточку мозжечок и переливается. Талия такая тоненькая, стройная; училась в городе, в пансионе. За ней семьдесят пять душ да двадцать пять тысяч деньгами, и приданое славное: в Москве делали; и родня хорошая… А? Сашенька? Я уж с матерью раз за кофеем разговорилась, да шутя и забросила словечко: у ней, кажется, и ушки на макушке от радости…
– Я не женюсь, – повторил Александр.
– Как, никогда?
– Никогда.
– Господи помилуй! что ж из этого будет? Все люди как люди, только ты один бог знает на кого похож! А мне-то бы радость какая! привел бы бог понянчить внучат. Право, женись на ней; ты ее полюбишь…
– Я не полюблю, маменька: я уж отлюбил.
– Как отлюбил, не женясь? Кого ж ты любил там?
– Девушку.
– Что ж не женился?
– Она изменила мне.
– Как изменила? Ведь ты еще не был женат на ней?
Александр молчал.
– Хороши же там у вас девушки: до свадьбы любят! Изменила! мерзавка этакая! Счастье-то само просилось к ней в руки, да не умела ценить, негодница! Увидала бы я ее, я бы ей в рожу наплевала. Чего дядя-то смотрел? Кого это она нашла лучше, посмотрела бы я?.. Что ж, разве одна она? полюбишь в другой раз.
– Я и в другой раз любил.
– Кого же?
– Вдову.
– Ну, что ж не женился?
– Той я сам изменил.
Анна Павловна глядела на Александра и не знала, что сказать.
– Изменил!.. – повторила она. – Видно, беспутная какая-нибудь! – прибавила потом. – Подлинно омут, прости господи: любят до свадьбы, без обряда церковного; изменяют… Что это делается на белом свете, как поглядишь! Знать, скоро света преставление!.. Ну, скажи, не хочется ли тебе чего-нибудь? Может быть, пища тебе не по вкусу? Я из города повара выпишу…
– Нет, благодарю: все хорошо.
– Может быть, тебе скучно одному: я за соседями пошлю.
– Нет, нет. Не тревожьтесь, маменька! мне здесь покойно, хорошо; все пройдет… я еще не осмотрелся.
Вот и все, чего могла добиться Анна Павловна.
«Нет, – думала она, – без бога, видно, ни на шаг». Она предложила Александру поехать с ней к обедне в ближайшее село, но он проспал два раза, а будить она его не решалась. Наконец она позвала его вечером ко всенощной. «Пожалуй», – сказал Александр, и они поехали. Мать вошла в церковь и стала у самого клироса, Александр остался у дверей.
Солнце уж садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотым окладам икон, то освещали темные и суровые лики святых и уничтожали своим блеском слабое и робкое мерцание свеч. Церковь была почти пуста: крестьяне были на работе в поле; только в углу у выхода теснилось несколько старух, повязанных белыми платками. Иные, пригорюнившись и опершись щекой на руку, сидели на каменной ступеньке придела и по временам испускали громкие и тяжкие вздохи, бог знает, о грехах ли своих, или о домашних делах. Другие, припав к земле, долго лежали ниц, молясь.
Свежий ветерок врывался сквозь чугунную решетку в окно и то приподнимал ткань на престоле, то играл сединами священника, или перевертывал лист книги и тушил свечу. Шаги священника и дьячка громко раздавались по каменному полу в пустой церкви; голоса их уныло разносились по сводам. Вверху, в куполе, звучно кричали галки и чирикали воробьи, перелетавшие от одного окна к другому, и шум крыльев их и звон колоколов заглушали иногда службу…
«Пока в человеке кипят жизненные силы, – думал Александр, – пока играют желания и страсти, он занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия… он приходит искать утешения в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными надеждами, с бременем лет…»
Мало-помалу при виде знакомых предметов в душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург; вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым; как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей; как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион… Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний.
«Ах! если б я мог еще верить в это! – думал он. – Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?.. ничего: я нашел сомнения, толки, теории… и от истины еще дальше прежнего… К чему этот раскол, это умничанье?.. Боже!.. когда теплота веры не греет сердца, разве можно быть счастливым? Счастливее ли я?»