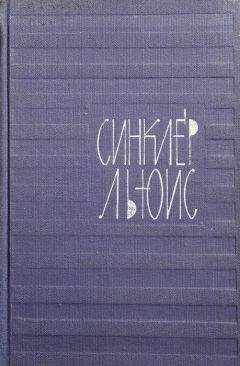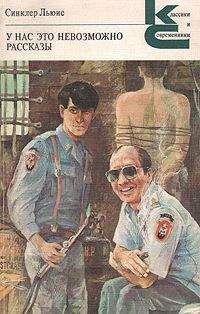Синклер Льюис - Том 5. Энн Виккерс
И вот я напускаю на себя добродетель, приношу масло и сахарный песок и говорю: «Когда я была малюсенькой девчушечкой в Орегоне (кажется, я назвала Орегон или еще какую-то глушь, где сроду не-бывала), мы с моими четырьмя сестренками частенько хаживали к нашему милому старому пастору варить помадку, и он всегда снимал сюртук и помогал. Если вы не снимете сюртук, я ни за что не смогу чувствовать себя, как дома, а если б вы только знали, как часто я вспоминаю счастливые невинные дни детства здесь, в этом чужом, безнравственном городе!» Ну и все в том же роде, а сама улыбаюсь сладкой улыбкой.
Ну, тут он, конечно, не выдержал. Снимает он свой сюртук, да только смотрю — старый черт вешает его не на кровать, а на кресло. Я это кресло всегда в чулан запихивала-специально, чтоб на него нельзя было ничего повесить. Ох, и расстроилась же я! Но я человек справедливый, и когда я сама виновата, на других не сваливаю. Так что я на старого осла не обиделась, а только себя ругала, зачем я кресло в комнате оставила. В общем, я ему говорю, что кресло может опрокинуться, и вешаю френчик на кровать. Мой напарник достал его через раздвижную панель, моментом вытащил хрусты, натолкал в конверт куски газеты, да и сунул обратно в скулу на случай, если старикану вздумается проверить, все ли там на месте.
По правде говоря, мне даже жалко стало старого ротозея — уж очень он радовался, что варит помадку. Сказал, что уж много лет ее не пробовал, старуха его, дескать, все болеет, и у него вообще никакой семейной жизни нет. Но — господи боже ты мой! Я чуть было не сдохла с тоски! Представляете, пришлось мне эту помадку есть! Это мне-то! Ох, до чего же мне хотелось дать ему по шее! Он торчал у меня до самого отхода поезда! И еще требовал, чтоб я опять пела ему псалмы! Да, но самое-то смешное я чуть не забыла! Не успели мы сварить эту помадку, как безмозглый старикашка — сволочи эти пуритане, верно? — снова напяливает свой сюртук, где теперь вместо зеленых спинок лежат такие миленькие аккуратненькие кусочки газеты. Жи вотик надорвешь! Как будто, если он останется в одной рубашке да в жилетке, я на него польщусь. Но в конце концов я его спровадила. Я готова была поклясться, что он не станет открывать бумажник, пока не сядет в вагон и не заберется на верхнюю полку. Но он оказался подозрительным. Скажите честно, как по — вашему- хоть он и прикидывался святошей, но ведь это доказывает, что у него у самого были дурные мысли. Не успел он выйти на трамвайную, остановку — такси для этих проклятых жмотов не существует, — как тут же полез в свою кису, а там уже не прекрасные хрустики, а одна только газетная лапша.
Только я собралась смываться и — вы, конечно, посмеетесь, — стою, мурлыкая себе под нос один из этих псалмов, как вдруг он врывается ко мне с быком. И у него еще хватило наглости шухер поднимать! Будто он и не приставал ко мне вовсе. А потом уж такую рождественскую бодягу развел, что и деньги-то не его. Говорит, будто он собирал пожертвования, чтобы пристроить столовую и кухню к своей рассучьей независимой церкви! А бык хватает меня и ведет в участок.
Ну, да об этом я заранее позаботилась. Я давно еще договорилась с одним знакомым, что, когда понадобится, он внесет за меня залог, а я смоюсь из города, а деньги пришлю ему потом. Я так и хотела сделать, да только когда приехала в Нью-Йорк, то подумала, что этот мой друг, который внес залог, обойдется без этих денег, а я девушка бедная, и мне надо как-то выкручиваться. И в конце концов кто все это дельце обтяпал? Ведь я же, а не кто-нибудь, а он только деньги дал. И я никак не могла взять в толк, зачем мне тут себя обижать? А вы как думаете?
Но вот ведь какая несправедливость! Я-то думала, что для старого козла это был хороший урок — пусть в другой раз не ходит к незнакомым женщинам. Разве это не стоило тех денег, которых он лишился? И разве я не заработала свои семьсот долларов? Ведь заметьте, триста мне пришлось выложить своему напарнику только за то, что он у старика карманы обшарил.
И что бы вы думали? Попик едет домой и кончает жизнь самоубийством. Газеты сваливают все на меня, говорят, будто он не стерпел позора. Только я-то тут при чем? Судите сами. Знаете, что я думаю? По-моему, он наложил на себя руки, когда понял, что поступил против свой веры: он ведь был шибко верующий. Позвал быка, засадил меня в кутузку и, значит, продал Спасителя… Ведь тот же говорил: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень».
— Я еще точно не знаю, что буду делать, когда выйду отсюда. Может, займусь спиритизмом. Вот это фартовое дело. И сами понимаете: все по закону, да еще много добра людям делаешь. Конечно, обдираешь дураков, как липку, но ведь и в любом деле так, а зато эти старые хрычи и хрычовки прямо лопнуть готовы от радости, если им скажешь, что тетя Мария шлет им привет из рая!
И притом я сама верю в спиритизм. А вы разве не верите? Впрочем, конечно, я так и думала. В том-то и горе, что все вы слепы, как черви. Миссис Битлик и капитан Уолдо тоже такие же. Слишком уж вы материалистичны, чтобы услышать голоса с того света. Да, много раз я утешалась в своем горе — никто из вас и представить себе не может, что мне пришлось пережить, много раз я утешалась, беседуя с генералом Грантом или еще с какой-нибудь великой душой. Вот почему я в кичман и угодила — потому что материалисты, вроде вас и судей, попросту меня не понимают. Да, я думаю, из меня получится хороший медиум.
А еще я могла бы написать книгу. Про то, какая я была испорченная, как блатовала и как потом раскаялась. Уж поверьте, это я сумею! Я ведь все стоящие книги прочла. Держу пари, что знаю Фрэнка Гарриса,[132] Оскара Уайльда и Артура Брисбейна[133] не хуже, если не лучше любого университетского профессора. Да, мне бы надо заняться каким-нибудь хорошим, честным делом вроде исцеления молитвой или очищения душ. М-да. Я, наверно, была не очень хорошей женщиной. Понимаете, мой папаша меня ненавидел. Ну и отлично! Я ему покажу! Правда, он уже двадцать лет как сыграл в ящик, но я все равно ему покажу! Чтобы с ним расквитаться, я буду мстить каждому мужчине, какой только попадется мне под руку!
Энн прижалась лбом к стене тюремного коридора. — Значит, есть все-таки арестанты, не менее отвратительные, чем их тюремщики.
ГЛАВА XXVII
Первая из двух женщин, находившихся в камере смертниц, была повешена на следующий день после приезда Энн в Копперхед-Гэп. Казнили ее в одиннадцать часов ночи, но уже с семи часов вечера и до рассвета тюрьма была охвачена смятением, и Энн слышала, как заключенные кричали и колотили в решетчатые двери камер.
Лил Хезикайя, старухе негритянке, приехавшей в тюрьму вместе с Энн, ее зловещей сокурснице в этом университете обреченных, теперь осталось ждать всего лишь неделю, и возле нее был установлен круглосуточный караул смерти. Круглые сутки двое из девяти надзирательниц, не сводя глаз с Лил, сидели по два часа в коридоре у дверей ее камеры.
Одной из них была Энн.
Караульщицы сидели в креслах-качалках — такие попадаются в летних домиках на берегах озер.
Еще семь дней. Еще шесть. Пять. Через пять дней его величество Государство схватит это живое существо и лишит его жизни. Вот сидит эта женщина — старая, сморщенная, пепельно-серая, по всей вероятности, безумная и все же исполненная чуда жизни. Глаза, наделенные магическим даром зрения, благодаря которому только и существуют предметы; уши, способные различать тончайшие оттенки звуков; чрево, породившее крепких бронзовых сыновей; руки, которые ткали яркие коврики и месили кукурузные лепешки, — и через пять дней, через четыре, а теперь уже через три дня мудрое и могущественное Государство превратит ее в кучу бесчувственной разлагающейся плоти, гордясь своей местью и твердо веря, что, умертвив таким образом Лил Хезикайя, оно на веки вечные предотвратило все убийства в будущем.
Милостию божией — аминь — мы не неистовствуем, подобно язычникам, но, согласно кроткому учению Христа, объединяемся в один великий союз, дабы кротко лишать жизни старых костлявых негритянок — так давайте же споем «Страна свободных и родина смелых».
Да, Энн была вне себя. Она не одобряла убийство. Она сожалела, что эта старая сумасшедшая негритянка совершила убийство. Но ведь Лил не готовилась к нему холодно и бесстрастно, как это делаем мы, думала она.
Еще два дня. Еще сутки.
Ведущие пенологи штата вроде миссис Унндлскейт и доктора Эддингтона Сленка часто заявляли, что в своем просвещенном краю они избавились от варварского понятия мести по отношению к преступникам. Поэтому они установили караул смерти возле Лил Хезикайя, чтобы она не могла покончить жизнь самоубийством и тем лишить общество удовольствия ее умертвить.
Ее ни на секунду не оставляли в одиночестве. Лил должна была спать, думать, молиться, испражняться, размышлять о том, что на следующий день она будет мертва, под наблюдением скучающей Китти Коньяк, миссис Кэгс или какой-нибудь другой надзирательницы. Лил всю жизнь прожила в горах и привыкла к тишине горных долин. Она уже давно томилась в предсмертной агонии, потому что смерть день и ночь, день и ночь неотступно глядела на нее из назойливых глаз этих женщин.