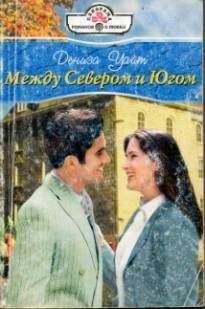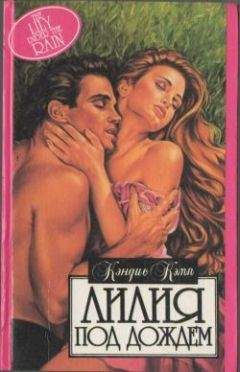РИЧАРД ХИЛЬДРЕТ - БЕЛЫЙ РАБ
Вот эти-то брошюры и вызвали такое смятение и ужас в южных штатах среди плантаторов, юристов, негоциантов и лиц духовного звания. И смятение и ужас эти пробудили столь горячий отклик и сочувствие на Севере, что там во имя уничтожения этих страшных мятежников и дерзких новаторов готовы были растоптать ногами все гарантии свобод, до сего дня считавшиеся священными и незыблемыми. Стало невозможным терпеть далее свободу печати и слова. По всей территории Соединенных Штатов Америки, когда дело касалось вопроса об отмене рабства, по общему мнению, не оставалось другого способа воздействия, как уличные беспорядки и расправы с "бунтовщиками" без суда.
Несколько сот мужчин и женщин - люди в большинстве своем никому до сих пор не известные, - организовав несколько публичных собраний и выпустив несколько памфлетов, умудрились перевернуть вверх дном всю страну.
Да, вряд ли даже Иоанн Креститель своим пророчеством о приближении царствия небесного сильнее напугал царя Ирода, книжников и фарисеев; и в наши дни, как в далекой древности, оказалось, что лучшим способом предотвращения опасности является резня и убийство невинных младенцев.
Точно так же, как встречаются горные ущелья, где произнесенное вполголоса слово, повторенное тысячекратным эхом, растет и ширится, подобно оглушительному грому, точно так же в известные исторические эпохи тысячи человеческих сердец одновременно и с равной горячностью отзываются на истину, как бы робко она ни была выражена. И тогда о великом значении этой истины можно судить по грому приветственных криков или по воплям возмущения и негодования, ярости и страха, которыми пытаются заглушить вещие слова.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Остановившись в Ричмонде, куда я попал по дороге на Юг, я заметил, что волна тревоги докатилась и сюда. Комитет бдительности, спешно организованный для борьбы с распространением мятежных изданий, с большим пылом уже приступил к делу. Добравшись до центра города, мы увидели на улице огромный костер, в котором догорали последние обрывки книг, подвергнутых осуждению и проклятию. Одна из приготовленных к сожжению книг представляла собой сборник - в него входили отрывки из речей, недавно произнесенных на депутатском собрании в Виргинии. В этих речах в самых ярких красках описывались страдания, причиняемые рабством.
Вопрос о том, что впредь ни одно подобное писание не будет опубликовано, был уже делом решенным.
В Ричмонде я достал лошадь и нанял слугу - это было необходимо, так как в Южной Виргинии не было никаких общественных средств передвижения; затем я поехал в Спринг-Медоу, место, где я родился.
Самой сложной оказалась необходимость отвечать на все вопросы, которые задавались мне в пути. Всякий путешественник, иностранец и притом никому не известный, вызывал недоверие. Я рассказывал поэтому, что много лет назад, путешествуя по стране, я познакомился с семьей владельцев Спринг-Медоу. Ведь я, в самом деле, состоял даже в "отдаленном родстве" с этой семьей.
По мере приближения к плантации я мог убедиться, что она находится в плачевном состоянии. Все свидетельствовало о разрухе и запустении, столь характерных для Виргинии. Мне показалось даже, что эти явления сейчас сказываются еще резче, чем прежде. Задумавшись, я медленно ехал по дороге; неожиданно мое внимание остановила лавчонка, расположенная у скрещения двух дорог. Это была лавчонка мистера Джимми Гордона и дом, где он жил. Отсюда до Спринг-Медоу оставалось миль шесть или семь.
Вечер был ясный и теплый. Какой-то пожилой человек мирно дремал, сидя на скамье перед домом. Это был сам Джимми Гордон.
Я заговорил с ним, назвав его по имени. Он поднялся, пригласил меня в дом и угостил рюмкой персиковой водки, но тут же извинился, сказав, что, к сожалению, никак не может припомнить моего имени.
Я назвался мистером Муром, добавив, что я англичанин, которому лет двадцать назад пришлось провести неделю или две в Спринг-Медоу. Я пояснил, что в те дни несколько раз заглядывал к нему в лавку.
Пробормотав в сомнении что-то сквозь зубы, Гордон заявил, что, разумеется, отлично все припоминает. Я заговорил с ним о владельцах плантации.
Джимми Гордон с грустью покачал головой,
- Разорились, - сказал он. - Да, сэр, окончательно разорились! Полковнику Муру на старости лет пришлось с несколькими рабами, которых ему удалось вырвать из когтей шерифа, отправиться в Алабаму. Больше мне ничего о нем слышать не приходилось. Плантация уже десять лет как брошена на произвол судьбы. В последний раз, заехав туда, я видел, что крыша дома почти обвалилась.
Я попросил мистера Гордона приютить меня у себя на несколько дней. Он сообщил мне, что торговля его сильно упала с тех пор, как уменьшилась населенность этих мест, и что он, несмотря на свой преклонный возраст, также подумывает о том, не перебраться ли и ему в Алабаму или в какое-нибудь другое место на юго-западе.
На следующее утро, поднявшись очень рано, я пешком направился в Спринг-Медоу. Но, отойдя на некоторое расстояние от дома мистера Гордона, я изменил направление и, вместо того чтобы итти в Спринг-Медоу, как я говорил Гордону, свернул на дорогу, ведущую к покинутой старой плантации, раскинувшейся на холмах. Там мы с Касси когда-то нашли себе убежище и провели несколько недель. Мы жили там, как вольные птицы, в радости и счастье, наслаждаясь нашей молодостью и полные надежд на будущее. Печально, увы, закончились эти светлые дни!…
Господский дом, когда я подошел к нему, предстал перед моими глазами в виде груды камня и мусора, но маленькая кирпичная сыроварня сохранилась почти в том же виде, в каком была тогда, когда мы жили там. Я опустился на землю под одним из старых деревьев, раскинувших свои ветви у входа. О, как ярко всплыло в моей памяти прошлое…
Часа два я просидел возле маленького дома, погруженный в свои мысли. Затем я поднялся и зашагал к Спринг-Медоу.
И здесь та же картина разрушения. Сад, в котором я провел столько беззаботных часов с мастером Джемсом, теперь весь зарос ползучими растениями и сорной травой, уже почти совсем заглушившей редкие, еще зеленевшие кусты. Кое-где виднелись следы аллей; сохранились и остатки оранжереи, где мы когда-то занимались с Джемсом, скрываясь от его брата Вильяма.
Недалеко от сада раскинулось кладбище, на котором были похоронены члены семьи владельца плантации. Слезы навернулись у меня на глазах, когда я стоял у могилы мастера Джемса. Несколько дальше, на участке, отделенном от господского кладбища оградой, я разыскал могилу моей матери. Кто мог бы теперь под густой зарослью трав отличить могилу раба от могилы хозяина?…
Это тихое кладбище с поросшими травой могилами, так же как и развалины зданий, когда-то блиставших богатством и роскошью, словно говорили о том, что не при существующей в стране системе рабства дано будет расти и крепнуть благосостоянию людей, не при рабстве достигнут расцвета селения и не в таких условиях искусство и наука победят природу…
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Вернувшись в Ричмонд, я увидел, что этот важничающий маленький городок все еще полон тревоги. Обычная судебная процедура была признана окончательно непригодной и при существующих условиях устранена. В городе властвовал самочинно создавшийся комитет бдительности. Этот новый орган взял на себя право устанавливать, какие газеты граждане отныне могут получать и какие книги читать и хранить у себя дома.
В такой обстановке нетрудно было показаться человеком подозрительным. К несчастью, перед моим отъездом в Спринг-Медоу я имел неосторожность однажды за столом позволить себе пошутить по поводу ужаса, в который повергло штат Виргинию появление нескольких книг с картинками. Дело в том, что особенное беспокойство вызвали именно иллюстрации, которыми были украшены некоторые присланные по почте аболиционистские брошюры.
Мое вторичное появление в городе еще усилило возникшие подозрения. Не успел я переодеться, как ко мне явилось трое джентльменов. Вид у них был весьма важный и торжественный. Это были, как пояснил мне хозяин гостиницы, одни из наиболее "почтенных граждан" Ричмонда. Очень вежливо, но тоном, не терпящим возражений, эти господа предложили мне незамедлительно предстать перед комитетом бдительности, заседавшим в ратуше.
Я привез с собой из Англии рекомендательные письма к одному местному негоцианту, который по рождению своему был северянином. Когда я зашел к нему сразу после моего прибытия в город, он, прочитав письма, проявил по отношению ко мне обычные в таких условиях внимание и любезность.
Не без труда я добился от сопровождающей меня охраны разрешения послать за этим негоциантом и за его приятелем, с которым я встретился у него за обедом и о котором мне говорили как об очень знающем юристе.