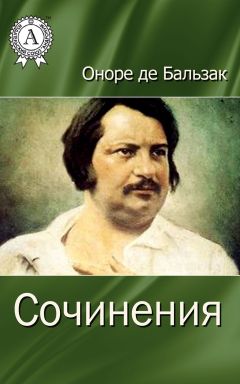Оноре Бальзак - Блеск и нищета куртизанок
– А где эти десять тысяч франков? – спросила г-жа дю Валь-Нобль.
– Это все мои карманные деньги, – сказала Эстер, улыбнувшись. – Открой туалетный столик, деньги под бумагой для папильоток…
– Кто говорит о самоубийстве, тот не кончает с собой, – сказала г-жа дю Валь-Нобль. – Ну, а если яд нужен для того, чтобы совершить…
– Преступление, хочешь ты сказать? – докончила Эстер мысль своей нерешительной подруги. – Можешь быть спокойна, – продолжала Эстер, – я никого не хочу убивать. У меня была подруга, очень счастливая женщина, она умерла, я последую за ней… вот и все…
– Ну и глупа же ты!..
– Что прикажешь делать? Мы дали обещание друг другу.
– Дай опротестовать этот вексель, – сказала подруга, смеясь.
– Делай, что я тебе говорю, и убирайся. Я слышу, подъезжает экипаж. Это Нусинген, человек, который сойдет с ума от счастья! Он-то меня любит… Почему мы не любим тех, кто нас любит, ведь они в конце концов делают все, чтобы вам понравиться?..
– Вот именно! – сказала г-жа дю Валь-Нобль. – Это вроде истории с селедкой, самой злокозненной из рыб.
– Почему она злокозненная?
– Ну, этого никому так и не удалось узнать.
– Ступай, душенька! Надо выпросить для тебя пятьдесят тысяч франков.
– Ну, прощай…
Вот уже три дня, как обращение Эстер с бароном Нусингеном резко переменилось. Обезьянка стала кошечкой, а кошечка становилась женщиной. Эстер одаряла старика сокровищами нежности, она была само очарование. Ее вкрадчиво-нежные речи, лишенные обычной ядовитости и насмешки, вселили уверенность в неповоротливый ум банкира; она называла его Фрицем; он думал, что любим.
– Мой бедный Фриц, я тебя достаточно испытывала, – сказала она, – я тебя достаточно мучила; в твоем терпении было высочайшее благородство, ты любишь меня, я вижу и вознагражу тебя. Ты мне нравишься, и я не знаю, как это случилось, но теперь я предпочла бы тебя молодому человеку. Возможно, опытность тому причина. Со временем замечаешь, что любовь – это дар души, и быть любимым, ради наслаждения ли, ради денег ли, одинаково лестно. Притом молодые люди чересчур большие эгоисты, они думают больше о себе, чем о нас; ты же думаешь только обо мне. Поэтому и я ничего больше не требую от тебя, я хочу доказать тебе, до какой же степени я бескорыстна.
– Я вам ничефо не даваль, – отвечал очарованный барон. – Я думаль подарить зафтра дрицать тисяча франк рента… Это мой сфатебни подарок…
Эстер так мило поцеловала Нусингена, что он побледнел и без пилюль.
– Смотрите, не подумайте, – сказала она, – что все это за ваши тридцать тысяч ренты… нет… а потому что теперь… я люблю тебя, мой толстый Фредерик.
– О, поже мой! Почему меня исфитифал… я бил би так сшастлив три месяц…
– Что это, из трех или из пяти процентов, мой дружок? – сказала Эстер, проводя рукой по волосам Нусингена и укладывая их по своей прихоти.
– Из трех… у меня их осталься от несостоятельни дольжник…
Итак, в это утро барон принес государственное долговое обязательство; он собирался позавтракать со своей дорогой девочкой, получить от нее распоряжения на завтра, на знаменитую субботу, большой день!
– Полючай, мой маленки жена, мой единствен жена, – радостно сказал барон, просияв от счастья. – Будет чем платить расход по кухня на остаток ваш тней…
Эстер без малейшего волнения взяла бумагу, сложила ее и убрала в туалетный столик.
– Ну вот, теперь вы довольны, чудовище несправедливости, – сказала она, потрепав Нусингена по щеке. – Наконец-то я хоть что-то от вас приняла! Теперь я уже не могу высказывать вам всякие истины, ведь я делю с вами плоды ваших, как вы называете, трудов… И это вовсе не подарок, бедный мой мальчик, а просто-напросто моя доля прибыли в деле… Ну, полно, не гляди на меня биржевиком. Ты отлично знаешь, что я тебя люблю.
– Мой прекрасни Эздер, мой анкел люпфи, – сказал барон, – прошу вас не говорить мне так никогта! Пускай говорит весь сфет, что я вор, я был бы равнодушен, лишь бы я был честни челофек для ваши глаз… Я все больше и больше люблю вас…
– Таково мое мнение, – сказала Эстер. – Поэтому я никогда больше не скажу тебе ничего такого, что могло бы тебя огорчить, мой слоненок, ты ведь стал простодушен, как дитя. Черт возьми! Да ты никогда и не знал, толстый греховодник, что такое невинность! Все же какую-то толику ее ты получил, когда появился на свет божий, ведь должна была она когда-нибудь всплыть на поверхность, но у тебя она затонула так глубоко, что потребовалось шестьдесят шесть лет, чтобы извлечь ее… багром любви. Такое чудо случается с глубокими стариками… Вот за что я в конце концов и полюбила тебя: ты молод, очень молод… Никто не знает этого Фредерика… одна я! Ведь уже в пятнадцать лет ты был банкиром… В коллеже, прежде чем давать товарищу игрушечный шарик, ты ставил условием возвратить тебя два… (Она вскочила на колени смеявшегося барона.) Ну что ж! Ты волен делать, что пожелаешь. Э, боже мой! Грабь их… не робей, я тебе в этом помогу. Люди не стоят того, чтобы их любить. Наполеон их убивал, как мух. Французам платить подати тебе или казне – не все ли равно!.. К казне тоже не питают нежных чувств, я, клянусь… Я хорошо все обдумала, ты прав… стриги овец, как сказано в евангелии от Беранже… Поцелуйте вашу Эздер… Ах, кстати! Ты отдашь этой бедной Валь-Нобль всю обстановку на улице Тетбу! И потом завтра же ты преподнесешь ей пятьдесят тысяч франков… Этим ты себя покажешь в выгодном свете… Видишь ли, котик, ты убил Фале, об этом уже кричат… Твой подарок покажется сказочно щедрым… и все женщины заговорят о тебе. О!.. во всем Париже ты один будешь велик и благороден, и – так уж создан свет! – все забудут о Фале. В конце концов ты выгодно поместишь капитал: ты заработаешь на нем уважение!
– Ти прав, мой анкел! Ти знаешь сфет, – сказал он. – Ти будешь мой софетник.
– Вот видишь, – продолжала она, – как я забочусь о делах моего мужа, о его добром имени, чести… Ну, ступай же, поищи для меня пятьдесят тысяч франков…
Она хотела избавиться от Нусингена, чтобы вызвать маклера и в тот же вечер на бирже продать свою ренту.
– А пошему так бистро? – спросил он.
– А как же иначе, котик, надо же их преподнести в атласной коробке, прикрыв веером. Ты скажешь ей: «Вот, сударыня, веер, который, надеюсь, доставит вам удовольствие!» Думают, что ты Тюркаре, а ты прослывешь Божоном104!
– Прелестни! Прелестни! – вскричал барон. – Я буду, стало бить, имейт теперь твой ум!.. Та, я буду пофторять ваши слофа…
В тот миг, когда бедная Эстер садилась в кресла, изнемогая от напряжения, которое ей потребовалось, чтобы разыграть свою роль, вошла Европа.
– Сударыня, – сказала она, – там рассыльный с набережной Малакэ, его послал Селестен, слуга господина Люсьена.
– Пусть войдет!.. Нет, лучше я сама выйду в прихожую.
– У него письмо для вас, сударыня.
Эстер бросилась в прихожую, взглянула на рассыльного – самый обыкновенный рассыльный.
– Скажи ему, чтобы сошел вниз! – прочтя письмо, сказала Эстер упавшим голосом и опустилась на стул. – Люсьен хочет покончить с собой… – шепнула она Европе. – Впрочем, отнеси письмо ему.
Карлос Эррера, все в том же обличье коммивояжера, тотчас сошел вниз, но, приметив в прихожей постороннее лицо, впился взглядом в рассыльного. «Ты сказала, что никого нет», – шепнул он на ухо Европе. Из предосторожности он тут же прошел в гостиную, успев, однако, посмотреть посланца. Обмани-Смерть не знал, что с некоторых пор у прославленного начальника тайной полиции, арестовавшего его в доме Воке, появился соперник, которого прочили в его преемники. Этим соперником был рассыльный.
– Ваши предположения правильны, – сказал мнимый рассыльный Контансону, который ожидал его на улице, – тот человек, приметы которого вы мне указали, в доме; но он не испанец, ручаюсь головой, что под этой сутаной – наша дичь.
– Он такой же священник, как испанец, – сказал Контансон.
– Я в том уверен, – сказал агент тайной полиции.
– О, если только мы правы!.. – воскликнул Контансон.
Люсьен действительно два дня был в отсутствии, и этим воспользовались, чтобы расставить сети; но он вернулся в тот же вечер, и тревоги Эстер рассеялись.
На другой день, поутру, когда куртизанка, выйдя из ванны, опять легла в постель, пришла ее подруга.
– Жемчужины у меня! – сказала Валь-Нобль.
– Ну-ка, посмотрим! – сказала Эстер, приподымаясь на локте, утонувшем в кружевах подушки.
Госпожа дю Валь-Нобль протянула подруге нечто похожее на две ягоды черной смородины. Барон подарил Эстер двух левреток редкостной породы, заслужившей носить в будущем носить имя великого поэта, который ввел их в моду, и куртизанка, чрезвычайно польщенная подарком, сохранила для них имена их предков: Ромео и Джульетты. Нет нужды говорить о привлекательности, белизне, изяществе этих, точно созданных для комнатной жизни животных, во всех повадках которых было что-то схожее с английской чопорностью. Эстер позвала Ромео: перебирая своими гибкими, тонкими лапками, такими крепкими и мускулистыми, что вы приняли бы их за стальные прутья, Ромео подбежал и посмотрел на свою хозяйку. Эстер, чтобы привлечь его внимание, размахнулась, будто собираясь что-то бросить.