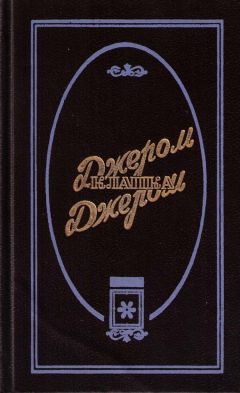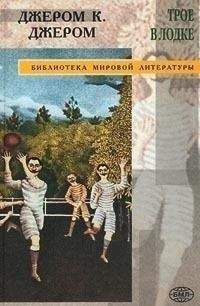Джером Джером - Пол Келвер
— Кто знает, — заметил Дэн, — может, я начну писать романы из светской жизни; в этом случае доскональное знание привычек аристократии даст мне решающее преимущество перед большей частью соперников.
Он испробовал м другие занятия: но Ирландии он бродил со скрипкой, а по Шотландии — с лекцией о Палестине, сопровождаемой туманными картинами; был маркером в биллиардной; потом — школьным учителем. Три последних месяца он был журналистом — театральным и музыкальным критиком в одной воскресной газете. Как часто мечтал я о подобном месте!
— Как ты устроился? — спросил я.
— Сама идея пришла мне в голову, — отвечал Дэн, — как-то вечерком, когда я прогуливался по Стрэнду, прикидывая, чем бы заняться дальше. Я был на мели — только несколько шиллингов бренчало в кармане; но удача мне никогда не изменяла. Я зашел в редакцию первой попавшейся газеты, поднялся на второй этаж, без стука отворил первую же дверь и прошел через маленькую пустую комнатку в следующую, побольше, заваленную бумагами и книгами. Темнело. По комнате кругами бегал человек очень моложавой наружности, страшно ругаясь из-за трех вещей: он опрокинул чернильницу, не мог отыскать спички и оборвал шнурок звонка. В полумраке я его принял за рассыльного и еще подумал, что забавно будет, если он окажется редактором. Редактором он и оказался, кстати. Я зажег газ и нашел ему чернильницу. Человек он был молодой, худощавый, говорил и вел себя, как школьник. Думаю, ему лет двадцать пять — двадцать шесть. Это газета его тети, поэтому он там и работает. Он спросил, знакомы ли мы. Я ему даже не успел сказать, что нет, — его понесло дальше. Он, видно, очень был обижен на судьбу.
— Приходят сюда всякие, — сказал он, — как будто тут проходной двор, или они от дождя укрыться хотят — да я никого из них не знаю! А этот чертов болван внизу всех пускает наверх — всех, и со статьями про какие-то клапана, и тех, кто просто явился поскандалить. Половину работы приходится на лестнице делать.
Я посоветовал ему установить такой порядок, чтобы посетители писали на листке бумаги, по какому делу пришли. Он решил, что это хорошая мысль.
— Я уже три четверти часа пытаюсь закончить одну-единственную колонку, — сказал он, — и мне четыре раза мешали.
В это самое мгновение в дверь постучали.
— Не хочу! — закричал он. — Кто бы это ни был, не хочу я его видеть! Прогоните его. Всех прогоните!
Я подошел к двери. За ней оказался пожилой джентльмен. Он сделал попытку обойти меня, но я преградил ему дорогу и затворил редакторскую дверь за собой. Он, казалось, удивился; но я объяснил, что сегодня редактора увидеть нельзя, и предложил ему изложить суть дела на листке бумаги, который и вручил ему. В приемной я просидел около получаса, и за это время отослал, наверное, человек десять-двенадцать. Не думаю, чтобы у них были важные дела, а то я бы о них еще услышал. Последним появился усталого вида джентльмен с папиросой. Я попросил его назвать себя.
Он удивленно посмотрел на меня и ответил: «Идиот!».
Я, однако, остался тверд и отказался его пропустить.
— Да, неудобно, — признался он. — Может быть, вы все-таки сделаете исключение для заместителя главного редактора перед сдачей номера в печать?
Я ответил, что таких указаний не получал.
— Ну и ладно, — ответил он. — Мне всего-то хотелось узнать, кто сегодня пойдет в театр Ройялти. Уже семь часов.
Тут меня осенило. Если заместитель главного редактора не знает, кого послать в театр, не значит ли это, что пост театрального критика в этой газете свободен?
— А, ничего, — сказал я. — Вполне успею.
Он и не обрадовался, и не расстроился.
— А главный знает? — спросил он.
— Я как раз собирался к нему зайти на минутку, — ответил я, — Все будет в порядке. Билет у вас?
— И не видел даже, — ответил он.
— Колоночку где-то? — предложил я.
— Лучше три четверти, — решил он и ушел.
Как только он вышел, я прошмыгнул вниз и поймал мальчишку — подручного печатника.
— Как зовут вашего заместителя редактора? — спросил я. — Высокий такой, с черными усами, еще выглядит устало.
— А-а, так это Пентон, — сказал парнишка.
— Точно, — подтвердил я, — никак не запомню.
Я отправился прямо к редактору; он все еще пребывал в раздражении.
— Ну что там? Что там еще? — прошипел он.
— Мне нужен билет в театр Ройялти, — объяснил я, — Пентон говорит, он у вас.
— Не знаю я, где он, — проворчал он.
Я, наконец, отыскал билет, порывшись у него на столе.
— А кто пойдет? — спросил он.
— Я, — сказал я.
И пошел.
Они до сих пор так и не поняли, что я сам себя назначил. Пентон считает, что я родственник владелицы, поэтому все относятся ко мне весьма уважительно. Сама миссис Уоллес, владелица, думает, что я — находка Пентона, а ему она очень доверяет; с ней я в прекрасных отношениях. Газета, по-моему, не особенно процветает, жалованье небольшое, но хватает. Журналистика мне по нраву, думаю, бросать это занятие пока не буду.
— Да уж, лежачим камнем тебя не назовешь, — подвел я итог.
Он рассмеялся.
— Ну, если уж говорить с точки зрения камня, — ответил он, — то я никогда не видел особых преимуществ в том, чтобы порасти мхом. Пусть я лучше буду таким камнем, который способен передвигаться и глазеть по сторонам. Ну ладно, поговорим о другом. У тебя какие планы на будущее? Опера ваша, спасибо тому господину, которого галерка прозвала Пучеглазиком, зиму продержится. Ты получаешь что-нибудь?
— Тридцать шиллингов в неделю, — сообщил я, — с полной оплатой за утренники.
— Скажем, два фунта, — отозвался он. — С моими тремя мы могли бы неплохо устроиться. Есть у меня одна оригинальная идея. Хочешь, вместе займемся?
Я принялся рьяно уверять его, что ничего другого и не желал бы.
— Есть четыре чудных комнаты на Куинс-сквер, — продолжил он. — Прекрасно обставлены: замечательная гостиная окнами на улицу, и две спальни и кухня. Последним там жил один польский революционер, так три месяца назад ему, несчастному, взбрело на ум вернуться в Россию. Теперь ему за квартиру платить не надо. Хозяин дома — такой чудаковатый старик, Делеглиз, он гравер. Все остальные комнаты в доме он и занимает. Он сказал, что сдаст мне эти комнаты за любую плату, сколько я скажу. Я думаю предложить тридцать шиллингов в неделю, хотя в нормальных обстоятельствах они стоили бы три-четыре фунта. Но мы их получим только при том условии, что будем обслуживать себя сами. Он, понимаешь, не без странностей. Юбок терпеть не может, особенно пожилых юбок. Есть у него одна служанка, старая француженка, она, по-моему, еще у его матери была домоправительницей, они вместе и делают всю работу по дому, большую часть времени ругаясь. Никаких других представительниц женского рода он и на порог не пустит; и нам не позволит, чтобы приходили убирать. С другой стороны, это старый красавец-дом, в георгианском стиле, с адамовскими каминами, с каменной лестницей, комнаты отделаны дубом, и нам достанется третий этаж целиком, никаких тебе хозяек, никакой игры на пианино. Сам он — вдовец, у него одна дочка, лет четырнадцати, может, немного постарше. Ну, что ты скажешь? Я, например, хорошо готовлю. Будешь прислугой и горничной?
Убеждать меня было не надо. Через неделю мы уже въехали, и жили там почти два года. Рискуя оскорбить чувства прекрасного, хотя и несколько самонадеянного пола, представительницы которого убеждены, что мужчина, будучи предоставлен самому себе, едва ли способен на что-либо большее, чем самостоятельно улечься в постель, и то не совсем по-людски, я все же, истины ради, свидетельствую, что мы прожили эти два года без помощи и руководства со стороны женщин, и тем не менее остались живы и можем об этом рассказать. Дэн не впустую хвастался. Лучших простых кушаний, чем готовил он, я не едал; такого вкусного кофе, или омлета, или жареных почек мне не доводилось пробовать. Если бы еще он умел ограничивать свои амбиции рамками собственного таланта, мне не о чем было бы писать, кроме как о его постоянных и однообразных успехах. Но порой, когда мы устраивали званый ужин или чай, он загорался опасным честолюбием, и, движимый примером старого Делеглиэа, нашего хозяина, который уже двадцать лет стряпал все сам, — Дэн отваживался на эксперимент. Печь, конечно, ему не следовало вообще: рука у него была слишком тяжелая, и характер чересчур серьезный. Был еще такой лимонный мусс, для которого требовалось долго сбивать яйца. В кулинарной книге — толстенном томе с роскошными цветными картинками, изображавшими разную еду, — он выглядел изящным воздушным сооружением ослепительной белизны. Когда же Дэн подавал его на стол, он скорее напоминал по форме и цвету последствия миниатюрного землетрясения. Он был действительно крепко сбит. Расчленить его можно было с помощью вилки и ложки; он поддавался с негромким лопающимся звуком. У Дэна было и еще одно фирменное блюдо — торт «Манна». О нем я скажу только, что, если он действительно в какой-то мере напоминал то, чем были вынуждены питаться дети Израиля, тогда можно объяснить раздражительность и недовольство, в которых их зачастую, несправедливо обвиняют. Можно даже простить им сожаление о котлах с мясом в Египте. А у самого Моисея пищеварение, видно, было отменное. Торт, правда, был сытный, этого нельзя не сказать. Одного куска — плотного, твердого, с корочкой снаружи и вязкого внутри — большинству гостей хватало, чтобы наесться до отвала. На ужин Дэн любил готовить разные пустяки — суфле, которое гости, несмотря на мои предостерегающие толчки, упорно называли пудингом, а зимой — блины. Что касается блинов, то тут он потом неплохо навострился; но вначале главная загвоздка была — как их переворачивать: подкидывать или нет. Я лично считаю, что безопаснее это делать ножом и вилкой; пусть это не так зрелищно, зато наверняка. По крайней мере, можно избежать риска угодить полусырой лепешкой себе же по голове или уронить ее в огонь, а то и в золу. Но девизом Дэна всегда было «совершенство» — да и, в конце концов, внимательный повар всегда заметит кусочек угля или пару волосков в лакомстве и сумеет их извлечь.