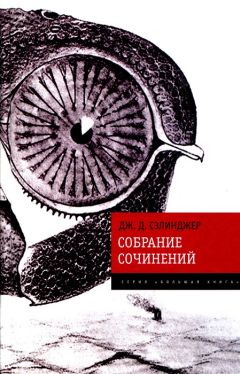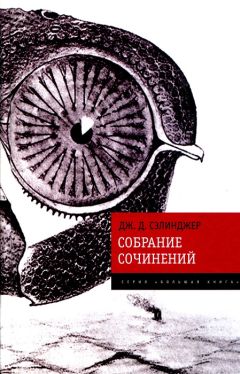Джером Сэлинджер - Повести о Глассах
О голосе Симора, его невероятном голосовом аппарате сейчас распространяться не буду. Во-первых, тут не место подробно об этом говорить. Скажу пока что своим собственным Таинственным (и не очень приятным) Голосом, что его голос для меня был тем наилучшим, хоть и никак не совершенным музыкальным инструментом, который я мог слушать часами. Но, повторяю, сейчас я хотел бы отложить полное описание этого инструмента.
Кожа у Симора была смуглой, но ничуть не темной, не болезненной и всегда удивительно чистой. Даже в мальчишеском возрасте у него никогда не было ни единого прыщика, хотя мы с ним вечно ели одну и ту же дрянь с лотков – то, что наша мама называла Антисанитарной Стряпней Людей, Которые Даже Никогда Не Моют Руки, – да и пил он столько же содовой воды, сколько и я, и, конечно, купался не чаще меня. По правде сказать, он ванну принимал даже реже меня. Но он так следил, чтобы все наши ребята – особенно близнецы – регулярно купались, что часто пропускал свою очередь. Тут, может быть, не совсем кстати, придется опять затронуть тему «парикмахерская». Как-то под вечер, когда мы с ним шли стричься, он остановился прямо посреди мостовой на Амстердам-авеню и спросил меня очень серьезно, пока с обеих сторон на нас мчались машины и грузовики, не хочу ли я пойти стричься без него. Я перетащил его на обочину (хоть бы мне платили по пятицентовику за каждую обочину, на которую я его оттаскивал, – и мальчишкой и взрослым) и сказал, что я, конечно, не хочу. Ему показалось, что у него грязная шея. Вот он и решил, что Виктору, нашему парикмахеру, будет противно смотреть на его грязную шею. Откровенно говоря, на этот раз шея у него и вправду была грязная. И тут, как часто бывало, он, оттягивая пальцем воротник, попросил меня взглянуть на его шею. Обычно этот район вполне отвечал всем санитарным требованиям, но уж если нет, так определенно – нет.
Пойду спать, давно пора.
Староста Женского общежития – очень милая особа – с раннего утра придет пылесосить мое жилье.
Жуткая тема – «одежда» – тоже должна где-то найти себе место. Как удивительно удобно было бы писателям, если б они могли позволить себе описывать костюмы своих персонажей вещь за вещью, складку за складкой. Что же нас останавливает? Скорее всего, желание оставить читателя, которого мы и в глаза не видели, в полном неведении либо из-за того, что мы считаем его не таким знатоком людей и нравов, как мы сами, либо оттого, что нам не хочется признать, что он-то прекрасно, а может, и лучше нас, понимает все до мельчайших подробностей. Например, когда я сижу у своего педикюрщика и случайно вижу в журнале «Соглядатай» фото какого-нибудь преуспевающего американца: киноактера, политического деятеля, недавно назначенного ректора университета – и у этого деятеля на стенке – Пикассо, у ног – бигль39, а на нем самом – английская домашняя куртка с поясом, я очень ласково отнесусь к собачке, вежливо – к Пикассо, но буду совершенно нетерпим, если речь зайдет об английских куртках на американских знаменитостях. А уж если мне эта личность вообще не очень понравится, то куртка свое добавит, и я наверняка сделаю вывод, что у этой личности кругозор так дьявольски быстро расширяется, что мне это не по душе.
Но продолжаем. С возрастом и Симор, и я стали, каждый по-своему, довольно нелепо одеваться. Немного странно (впрочем, пожалуй, не очень), что мы так скверно одевались: по-моему, когда мы были мальчишками, мы были одеты вполне пристойно и аккуратно. В самом начале наших платных выступлений по радио Бесси обычно покупала нам одежду у Де-Пинна на Пятой авеню. Как она впервые попала в это достойное и солидное учреждение, можно только догадываться. Мой брат Уолт, который при жизни был очень элегантным молодым человеком, чувствовал, что Бесси просто подошла к полисмену и спросила у него совета. Предположение вполне разумное, потому что наша Бесси, еще когда мы были детьми, обычно во всех самых запутанных делах искала совета у человека, который во всем Нью-Йорке больше всего напоминал Друидского жреца – я говорю об ирландце-полисмене на углу перекрестка. Можно даже предположить, что найденный Бесси магазин одежды Де-Пинна тоже подтверждал представление обо всех ирландцах как об очень везучих людях. Но не только это. Приведу пример, не совсем уместный, но симпатичный: мою маму ни в коем случае нельзя было назвать усердным читателем. Но я сам видел, как она зашла в один из самых шикарных книжных магазинов на Пятой авеню, чтобы купить именинный подарок ко дню рождения одному из моих племянников, и вышла оттуда, даже выплыла, с великолепно иллюстрированной книгой Кэй Нильсон «К востоку от солнца, к западу от луны», и, зная Бесси, можно было с уверенностью сказать, что в этом магазине она вела себя как вполне Светская Дама, снисходя к суетившимся вокруг нее продавцам. Но вернемся к нашей юности, расскажем, как мы тогда выглядели. Чуть ли не с десяти лет мы уже стали самостоятельно покупать себе платье независимо от Бесси и даже друг от друга. Симор, как старший, отпочковался первым, но уж, когда мое время пришло, я с ним сквитался. Помню, что в четырнадцать лет я бросил магазин на Пятой авеню, как остывшую картошку, и перешел на Бродвей, – специально в лавку где-то на Пятидесятых улицах, где вся бригада приказчиков хотя и была, как мне казалось, более чем враждебно настроена, но зато, по крайней мере, чувствовала, что пришел человек, отроду понимающий, что значит врожденная элегантность. В тот последний, 1933 год, когда мы с Симором вместе выступали по радио, я каждый вечер появлялся в светло-сером двубортном пиджаке, с высоко подложенными плечами, в темно-синей рубашке, с голливудским «развернутым» воротничком, и в наиболее чистом из двух одинаковых канареечно-желтых галстуков, которые я вообще берег для торжественных случаев. Откровенно говоря, с тех самых пор я никогда ни в одном костюме не чувствовал себя так хорошо. (Не думаю, что человек пишущий может когда-нибудь окончательно отказаться от своего старого канареечно-желтого галстука. Уверен, что раньше или позже этот галстук непременно вынырнет в его прозе, и тут, пожалуй, ни черта сделать нельзя.) Симор, с другой стороны, выбирал для себя чрезвычайно пристойную одежду. Но главная загвоздка была в том, что ни одна готовая вещь – костюм и особенно пальто – не сидела на нем как следует. Наверно, он удирал, может быть, даже полуодетый и, уж конечно, без нанесенных мелом наметок, как только к нему подходил кто-нибудь из перешивочного отделения. Все его пиджаки то топорщились, то обвисали. Рукава либо закрывали средние фаланги пальцев, либо не доходили до кисти. Хуже всего дело обстояло с брюками, особенно сзади. Иногда становилось даже страшно, как будто зад от размера тридцать шестого был брошен, как горошина в корзину, в сорок четвертый размер. Впрочем, были еще и другие, гораздо более жуткие аспекты, которые следует здесь отметить. Симор совершенно терял всякое представление о своей одежде, как только она оказывалась на нем, – если не считать смутного, но реального ощущения, что он фактически уже не голый. И дело тут было вовсе не в инстинктивной, а может быть и благоприобретенной, антипатии к тому, что в наших кругах называют «одет со вкусом». Раза два я ходил с ним За Покупками, и мне помнится, что он покупал себе платье со сдержанной, но приятной мне гордостью, как юный «брахмачарья», молодой послушник-индус, выбирающий свою первую набедренную повязку. Да, странное дело, очень странное. Что-то постоянно случалось с одеждой Симора именно в ту минуту, как он начинал одеваться. Он мог простоять положенные три-четыре минуты перед дверцей шкафа, разглядывая свою сторону нашей общей вешалки для галстуков, но ты знал (если только ты, как дурак, сидел и смотрел на него), что стоило ему наконец что-то выбрать, как этот галстук был обречен. Либо узел, которому полагалось ладно сесть под воротник, сбивался в комок и чаще всего оказывался сбоку примерно на четверть дюйма, не прикрывая воротничка. А уж если узел галстука намеревался сесть на свое место, то полоска галстучного шелка неминуемо высовывалась сзади из-под воротничка, как ремешок от бинокля у туриста. Но я предпочитаю больше не касаться этой запутанной и сложной темы. Короче говоря, из-за одежды Симора вся наша семья часто доходила почти до полного отчаяния. Мои описания, по правде говоря, далеко отстают от действительности. Много было разных вариантов. Скажу только вкратце и сразу закрою эту тему: можно всерьез расстроиться, если ждешь летним вечером, под пальмами отеля «Билтмор», в час коктейлей, и вдруг видишь, что твой полубог, твой герой взлетает по широкой лестнице, сияя от предстоящей радости, но ширинка у него не совсем застегнута.
Хочу еще на минутку остановиться на этой лестнице, то есть просто рассказать, не думая, куда, к черту, она меня заведет. Симор всегда взлетал на все лестницы бегом. Он их брал с ходу. Мне редко приходилось видеть, как он по-другому всходил на ступеньки. И это приводит меня к рассуждению на тему «сила, смелость и сноровка». Никак не могу себе представить, что в наше время кто-нибудь (впрочем, мне вообще трудно кого-то себе представить) – за исключением ненадежных гуляк-докеров, отставных армейских и флотских генералов и всяких мальчишек, занятых развитием своих бицепсов, – кто-нибудь еще верит в устаревший, но очень распространенный предрассудок, будто бы поэты – народ хилый, хлипкий. А я готов утверждать (особенно потому, что среди читателей – и почитателей – моей литературной стряпни много и военных, и спортсменов, любителей свежего воздуха, «настоящих мужчин»), что не только нервная энергия или железный характер, но и чисто физическая выносливость требуются для того, чтобы создать окончательный вариант первоклассного стихотворения. Как ни печально, но хороший поэт часто до безобразия небрежно относится к своему телу, но я считаю, что вначале ему было дано тело вполне выносливое и крепкое. Мой брат был одним из самых неутомимых людей, каких я знал. (Вдруг я ощутил бег времени.) Полночь только близится, а мне уже захотелось соскользнуть на пол и продолжать писать в лежачем положении. Мне только что пришло в голову, что Симор при мне никогда не зевал. Вообще-то он наверно зевал, но я этого не видел. И дело тут не в воспитанности: у нас дома никому зевать не мешали. Я сам зевал постоянно – а ведь спал я больше, чем он. Но все же спали мы всегда слишком мало, даже в детстве. Особенно в те годы, когда мы выступали по радио и вечно носили в карманах, по крайней мере, по три библиотечных абонемента, истертых, как старые паспорта, не было почти ни одной ночи, – и это в школьные дни! – когда свет в нашей комнате выключался раньше двух или трех часов утра, кроме тех минут после Отбоя, когда наш Старший Сержант, Бесси, делала обход. Если Симор чем-то увлекался, что-то исследовал, он часто мог, даже в двенадцатилетнем возрасте, вообще не ложиться спать две-три ночи подряд, и по нему это ничуть не было видно. Но бессонные ночи, очевидно, действовали только на его кровообращение, руки и ноги у него холодели. Примерно в третью бессонную ночь он хоть раз подымал голову и спрашивал меня – не чувствую ли я ужасный сквозняк. (В нашей семье ни для кого, даже для Симора, не бывало просто сквозняков – только «ужасные сквозняки».) Иногда он вставал с кресла или с полу, смотря по тому, где он читал, писал или думал, и шел проверять – не оставил ли кто-нибудь окно в ванной открытым. Кроме меня, только Бесси всегда угадывала, когда Симор не спал. Она судила по тому, сколько пар носков он надевал на себя. В те годы, когда он вырос из коротких штанишек и носил длинные брюки, она вечно заворачивала его штанину и смотрела – надел ли он заранее две пары носков для защиты от ночного сквозняка. Сегодня я – сам себе Песочный Человек. Спокойной ночи! Спокойной вам ночи, бесчувственные вы, до противности необщительные люди!