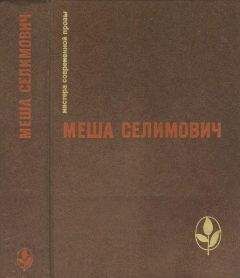Меша Селимович - Дервиш и смерть
На корабле они виделись реже, чем Хасан надеялся. Купец плохо переносил качку и почти всю дорогу не вылезал из постели, страдая – его выворачивало наизнанку. Хасан знал об этом, чувствовал тяжелый запах, из-за которого часами приходилось проветривать каюту ради того, чтобы в тот самый миг, когда помещение будет проветрено и вымыто, оно снова оказалось опоганенным и загаженным, а бедняга лежал желтый и мокрый, как на смертном одре. Должно быть, он умрет, думал юноша с опасением и надеждой, а позже раскаивался в своей жестокости. Мария с каким-то надрывом почти не отходила от мужа, чистила и проветривала каюту, утешала его, держала за руку, поддерживала ему голову, когда его сводили судороги, что нисколько не уменьшало его мук и нисколько не увеличивало ее супружской любви. Когда он засыпал, она поднималась на палубу, где Хасан в нетерпении ждал момента, чтоб увидеть ее тонкую гибкую фигуру, а потом с ужасом считал минуты, когда долг призовет ее в вонючую каюту, где, растроганная собственной жертвой, она думала о свежем морском ветре, вспоминала звуки нежного голоса, говорившего о любви. Они говорили не о своем чувстве, но о чужом, что, впрочем, одно и то же. Она вспоминала любовные стихи европейских поэтов, он – восточных, что, впрочем, одно и то же. Никогда до тех пор чужие слова не были им столь необходимы, а это равнозначно тому, как если бы они сами придумывали свои. Спрятавшись от ветра за капитанской рубкой или за ящиками и палубными надстройками, они равным образом прятались за эту поэзию, и поэзия тогда нашла свое полное оправдание, что бы о ней ни говорили. А когда женщина осознавала свой грех, когда она чувствовала, что ей слишком хорошо, она наказывала себя мужем и своей жертвой.
– Мария, – шептал юноша, пользуясь разрешением называть ее по имени, что казалось ему высшей милостью, – выйдете ли вы сегодня?
– Нет, дорогой друг, слишком много стихов сразу, это нехорошо и может вызвать печаль. Да и ветер холодный, я не прощу себе, если вы простудитесь.
– Мария, – задыхался юноша. – Мария…
– Что, дорогой друг?
– Значит, я не увижу вас до завтра?
Она позволяла ему держать свою руку и слышала удары волн и стук его крови, желая, может быть, позабыть о времени, а потом приходила в себя.
– Заходите к нам в каюту.
И он шел к ним в каюту, чтоб задыхаться в кислом воздухе и тесном пространстве, чтоб изумленно наблюдать за тем, с какой самоотверженностью Мария ухаживает за мужем. Он боялся, как бы при виде этого его тоже не свалила морская болезнь.
Уже в виду Дубровника, в последнюю ночь, она пожала ему руку – он безуспешно пытался ее удержать – и шепнула:
– Я навсегда запомню это путешествие.
Может быть, из-за Хасана и стихов, а может быть, из-за мужа и морской болезни.
В Дубровнике он дважды был желанным гостем у них в доме, среди множества тетушек, родственниц, знакомых, друзей и оба раза с трудом подавлял желание сбежать из этого неведомого мира, который на городских улицах едва обращал внимание на его восточную одежду, а в салоне шьор[50] Луки и шьоры Марии пялили на него глаза как на чудо. Словно бы нечто неприличное было в этом его визите, и он чувствовал себя неловко и робел. Когда же вдобавок он столкнулся с учтивым вниманием натянуто улыбавшейся Марии, отчего она показалась ему совсем чужой и далекой, ему стало очевидно, что именно у них в доме отчетливо видна их подлинная отчужденность. Здесь они были двумя иностранцами, которых все разделяло, и не со вчерашнего дня. Привычки, обычаи, манера разговаривать, манера молчать, то, что они прежде думали друг о друге, не зная друг друга как следует, все это создавало пропасть между ними. Он понял, что в этом городе Мария защищена и прикрыта домами, стенами, церквами, небом, запахом моря, людьми, собой, какой она нигде не была. И защищена от него, может быть, только от него. Может быть, даже и он от нее. Ибо он приходил в ужас при одной мысли, как можно вообще жить в этом прекрасном месте, одному или с нею, душу его наполняла печаль, какой он не чувствовал никогда до тех пор, и он с радостью простился с ними, когда наткнулся на какой-то торговый караван, что с Пила уходил в Боснию. Радость переполняла его, когда он увидел снег на Иван-планине и боснийский туман, ощутил лютый ветер Игмана, когда растроганный вступил в накрытый тьмою город, стиснутый горами, поцеловался с земляками. Городок показался ему меньше, а дом стал больше. Сестра любезно сказала, что было бы жалко, если б материнский дом остался пустым. Она боялась, как бы он не поселился в большом отцовском доме. С отцом он тут же поругался, вероятно больше всего из-за того, что старик повсюду разнес молву о его успехах и славе в Стамбуле, чтоб напакостить зятю-кади, которого вообще не выносил, и теперь чувствовал себя обманутым и опозоренным. В городе его возвращение расценили как неудачу, поскольку ни один разумный человек не стал бы возвращаться сюда из Стамбула и не покинул бы высокой службы у султана, если б не был к тому вынужден. Он женился, из-за Марии, из-за воспоминаний, из-за пустынных комнат, из-за чужого вмешательства, еле-еле выдержал одну зиму с женой, глупой, болтливой, жадной, потом освободил себя от нее и ее семьи, подарив им имение в окрестностях города и деньги, данные якобы взаймы. И с тех пор не переставал смеяться. Его родина не земля обетованная, его земляки не ангелы. А он не в силах их больше ни исправить, ни испортить. Они сплетничали о нем, подозревали и оговаривали, новая родня накинулась на него, как волки, пользуясь его стремлением как можно скорее избавиться от жены, он долго оставался мишенью для чужих языков, он пришелся им в самый раз, чтоб разогнать их скуку. Он вспоминал, как в Стамбуле защищал благородство своих земляков, и смеялся. К счастью для себя, он никого ни в чем не упрекал, не горевал, все, что с ним произошло, он воспринимал как жестокую шутку. Другие еще хуже, возразил он, защищая, думается мне, скорее свои прежние восторги, чем правду. За два-три года он снова полюбил их, привык к ним, как и они к нему, стал даже уважать их по-своему, с насмешкой, но без злобы, почитая больше жизнь и то, что в ней существует, чем свои мечтания о ней. Умны эти люди, сказал он мне однажды со своей странной манерой, состоящей из издевки и серьезности, которая часто смущала меня. Они принимают безделье Востока, приятную жизнь Запада; они никогда не спешат, ибо спешит сама жизнь; их не интересует то, что стоит за завтрашним днем, придет то, чему суждено, а от них мало что зависит; они вместе только в несчастьях, поэтому и не любят часто бывать вместе; они мало кому верят, и легче всего провести их красивым словом; они не похожи на героев, но труднее всего испугать их угрозой; они долго ни на что не обращают внимания, им безразлично, что происходит вокруг, а потом вдруг все начинает их касаться, они все переворачивают и ставят с ног на голову, чтобы вновь стать сонями, и не любят вспоминать о том, что было; они боятся перемен, поскольку те часто приносили им беду, но им легко может наскучить любой, хотя бы он делал им добро. Странный мир, он оговаривает тебя, но любит, целует тебя в щеку и ненавидит, высмеивает благородные деяния, но помнит о них спустя много лет, он живет упрямством и добрыми делами, и не знаешь, что возобладает и когда. Злые, добрые, мягкие, жестокие, неподвижные, бурные, откровенные, скрытные, это все они и все где-то между этим. А поверх всего они – мои и я – их, как река и капля воды, и все то, что я говорю о них, я говорю, словно о себе.
Он находил в них тысячу недостатков, но любил их. Любил и ругал. Он стал водить караваны на Восток и на Запад, немного из упрямства, чтоб показать презрение к занятиям, которым посвящал свое время, разозленный упреками имущих людей, а скорее всего, пожалуй, для того, чтобы отдохнуть от городка и своих земляков, чтоб не возненавидеть их, чтоб стосковаться по ним, чтоб увидеть зло и в других странах. И эти непрерывные блуждания, с одной лишь точкой на земле, которая придавала смысл этим блужданиям, которая делала их возвращением, а не бродяжничеством, означали для него подлинную или воображаемую свободу, что, в конце концов, одно и то же. Без этой точки, к которой ты привязан, ты не сможешь полюбить и другой мир, тебе некуда будет уйти, потому что ты будешь нигде.
Эта мысль Хасана, не очень для меня ясная, эта неизбежность привязанности и усилие освобождения, эта необходимость любви к своему и потребность в понимании чужого, есть ли это невольное примирение с маленьким пространством и утоление стремления к большему? Или это изменение мерок, чтоб свои не стали единственными? Или сокрушенное ограниченное бегство и еще более сокрушенное возвращение? (Трудно мне было понять это еще и потому, что моя мысль шла совсем иначе: существует мир с подлинной верой и мир без нее; остальные различия менее важны, и мое место могло оказаться всюду, где я был бы необходим.)