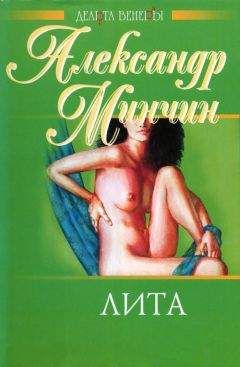Александр Минчин - Факультет патологии
– Совсем нет; а раньше?
– А раньше ты была девочка Ирочка.
Она задумывается. Мы целуемся в щеки и расходимся. По пути домой я опять себя ловлю на мысли: а чего я спешу туда? Мне опять кажется, что кто-то будет ждать. Но это опять мне только кажется. И снова две булки, колбаса и молоко плюс еще сырок творожной с изюмом добавляется. Я стал таким тощим и стройным за этот месяц жизни, что хоть на конкурс выставляй. (Что когда захожу в ванную, в зеркале не нахожу себя.) Говорят, на Западе проводятся конкурсы первых красавиц мира. Вдруг слово «красавиц» почему-то больно режет меня и затормаживает.
Чтобы ни о чем не думать, я ложусь спать. Прихожу домой и очень рано ложусь спать. Кто еще так жил в юные года… У соседей опять какой-то шум, но это я слышу уже через сон – спящего сознания.
Поздно вечером я читаю «Дикую утку» Ибсена, это и вправду тоскливо, и зачем нужно было ее писать, чтобы мы мучились. Интересно, слышит ли меня доцент Храпицкая и не переворачивается ли вверх ногами в своей монашеской постели от такого кощунства. А может, она и не монашка?
– Итак, мои дорогие, – говорит она, – кто хочет начать? Выступить и рассказать нам, в чем идейный смысл, сущность, я бы сказала, зерно или стержень, семя – назовите как хотите – бессмертного произведения Ибсена «Дикая утка».
Как же бессмертного, думаю я, когда все смертью кончается.
– Я жду, – говорит она, – времени у нас немного, и оно не резиновое.
У каждого свой подход ко времени.
Все сидят молча, по возможности еще молчаливее.
Я смотрю, как рот ее в уголках подбирается, и, чтобы не доводить до греха, поднимаю руку.
– Ну что, опять палочка-выручалочка? У остальных сил или способностей не хватает? В чем дело?
Все сидят не шевелясь. Я держу руку.
– Опусти, Саш. Спасибо, в тебе я никогда не сомневалась, но твои знания мне известны. Я хочу послушать других.
Я опускаю руку. Это занятие, мне можно предаться собственным мыслям. Я не выдерживаю, наконец: где она?!?!?!?
Вот дурак, и стоило столько крепиться, ждать, мучиться, чтобы сказать это себе, про себя. И почему я так устроен?
– Вот вы, две девочки, вас, кажется, зовут Света и Марина. Я вас никогда не слушала, так что начните. Например, вы, Света.
Я смотрю на них. Они явно выросли для девочек (но кого это волнует в наше дивное время, к тому же по моим расценкам: они не девические женщины давно).
Светка поднимается и, перехватив воздух, начинает говорить. Господи, я Светку никогда такой не видел. Она отвечает так, что впечатление, будто мужика никогда не имела. Я не могу объяснить вам, как это можно отвечать так, но она так отвечает.
Маринка и подавно лопочет, как будто не сама трижды не рожала, а ее только что родили. С богом пополам они выцарапывают какие-то положительные крестики в ее журнале, и она отпускает их на покой. Хотя и делает им ряд замечаний, но она умная баба и понимает, что не могут все знать литературу и только ею заниматься.
В жизни много более важного!
После занятий мы идем с Иркой в буфет. У меня остается один рубль до завтра. Марья Ивановна по-прежнему обсчитывает, да еще дает Ирке плохой кофе с молоком, который брал я.
– Марья Ивановна, ну что вы мне такой кофе с молоком дали?
– А это ты, Саш! Я тебе сейчас другой дам. Чего ж ты не сказал, тут за день так наработаешься, – (разрядка моя), – что своих не узнаешь.
Она меняет кофе.
– И чего ты такой дурной, – говорит она, скрещивая руки под буфетной грудью, – за всех платишь, как ненормальный. Тебе что, больше всех надо, у нее вон муж богатый, пускай и дает ей на завтраки, а то два года она всегда приходит с тобой и никогда не платит.
И откуда она все только знает, про мужа.
– Ладно, Марья Ивановна, это же пустяки, копейки.
– Да, я за эти копейки целые дни бьюсь. – Она оглядывается, у прилавка никого нет, и, подмигнув мне, улыбается.
И где только ОБХСС ходит, вечно не там, дураки, пасутся. Хотя их я ей бы не пожелал. Но крупными слезами они плачут по ней, это точно. Вытрите слезы, товарищи, – Марью Ивановну вам не взять!
– Ты что думаешь, я тебя не узнала, – продолжает она, – узнала, я специально ей такой кофе с молоком дала. Знала же, что не для тебя. Ты всегда только чай с лимоном пьешь.
О Господи, везде подводные течения, даже в буфете.
– Я для тебя иногда только лимончик и берегу. И для ректора, он тоже любит.
Я чуть не поперхнулся.
– Спасибо, Марья Ивановна.
– Как мама, Саш?
– Хорошо, – говорю я и иду в угол, где сидит в ожидании Ирка.
– Ты чего так долго с ней разговаривал, менять не хотела?
– Нет, о маме.
– Она, кстати, тебя и Сашку Когман страшно любит, от Сашки прямо слюнки в бутерброд пускает.
– Зато, Ирка, она первая, кого я встречаю, кто не любит тебя.
– А я знаю. Это из-за Юстинова. Он ей очень нравился сначала, а теперь она считает, что он несчастный, потому что на мне женился.
Закончив трапезу, мы выходим из буфета и идем через площадь, где стоит памятник Ленину.
– Ира, а что это за гирлянды, украшения? – Они висят вокруг.
– Завтра у пятого курса прощальный звонок, последний день занятий в институте.
Я вздрагиваю.
– Господи, вот счастливые, как бы я хотела быть пятикурсником и закончить всю эту блевотину обучения. – (Где мой папа только!) – Ненавижу больше, чем аборты, а тошнит от всего этого, как будто беременная. Перед каждым изворачивайся, играй, выкручивайся, придуривайся – и все из-за какого-то зачета или экзамена. А кому потом наши знания нужны будут? Да никому: в школе своя программа, и как директор или завуч, а то еще лучше – в гороно скажут, так и делай, особенно когда «молодой специалист»: выполняй все приказания. А пока «старым» станешь, чтоб разрешили хоть чуть-чуть, но свое сделать, за-штампуешься так, что от себя самому тошно станет, вот и вся жизнь. Прошла она.
– Ир, а чего ты в этот институт пошла?
– Рядом с домом было, чтобы далеко не ездить. Да и какая разница, какой институт и куда. Важно, где работать будем, в каком месте. А после института при распределении все равно блаты заработают, какой институт не кончи. Но ты представляешь, Саш, как я его люблю, если он мне хуже аборта кажется?! Она улыбается.
– Зато Юстинова встретила, – шучу я.
– О, вот это точно большое счастье, ради этого непременно стоило идти сюда. Не встретила б его, так и абортов не знала.
– Ты что, Ир, опять попала, слово с языка не сходит?
– Нет, что ты, Санечка, таблетки твои работают безотказно. Как и я. Просто в воспоминаниях разгорячилась.
На английский язык мы опаздываем примерно на полчаса.
– Вот милая пара, – говорит Магдалина, когда мы появляемся, – как обычно, вас что, звонок не касается, двадцать пять минут занятия прошло.
Все смотрят на нас и улыбаются: получили разрядку, да еще я сейчас что-то скажу.
– Магдалина Андреевна, у меня живот болел, страшное дело, что-то не то, наверно, съел.
– Хорошо. А у тебя, Ир, что болело?
– А я его у туалета ждала. Вся группа лежит.
– А что, не могла же я товарища в беде бросить, одного.
Сашенька Когман заливается, аж слезки летят. У нас с Иркой отрепетированные эти номера. Без подготовки, чувство локтя.
– Ну, Ира, разве можно так говорить, ты же девочка. Да еще при всей группе.
– А что, Магдалина Андреевна, я же внутрь не заходила.
Сашеньку Когман можно выносить, она готова и чуть не падает. Выпадает из-за парты.
– Ну, хорошо, садитесь, – говорит Магдалина, – вечно у вас какие-нибудь приключения.
Мы садимся с Иркой и улыбаемся друг другу. Оказывается, мне с ней еще приятно общаться и в ней осталось что-то от прежней девочки Ирочки.
На перемене я стою у бордюра и наблюдаю с третьего этажа. Внизу суетятся и ходят, спешат куда-то. Вдруг на первом мелькает необыкновенное платье, я чуть не свешиваюсь за бордюр… Нет, мне только кажется.
С непонятным чувством я ухожу из института.
Сегодня – это сегодня.
Городуля выдает мне мою стипендию, тщательно отсчитывая.
– Чего, Люб, ошибиться боишься?
– Ага, – наивно подтверждает она.
– Ваше девичье дело такое, одна ошибка и прощай…
– Опять ты со своими штучками!
– Ну, я шучу, не обижайся.
– Вот сбилась из-за тебя, – и она опять начинает пересчитывать.
– Да не бойся, не ошибешься, уже поздно…
– Ты о чем это? – говорит она.
– Обо всем… э-э, то есть о деньгах, конечно.
– На, расписывайся.
Я это делаю, расписываюсь.
– А то, если ошибусь, ты поправишь, – не унимается она.
– Наоборот, Люба, подтолкну. Ты знаешь, как сказал занудный Ницше: падающего – подтолкни.
– Вот-вот, это на тебя похоже. Ох и жук ты! Следующий, – говорит она.
А я думаю: неужели ей одного мало… Потом отхожу.
Стою и наблюдаю за ленинской аудиторией, где они в последний раз собираются для прощального звонка.
Пятикурсники, разряженные и разодетые, чинно входят в аудиторию, переговариваясь. Я до устали вглядываюсь в площадку у памятника (Троцкого ли, Ленина, какая разница), но никого нет. Мне кажется, что я ее сразу замечу, она должна быть в необыкновенном, особенном платье. Она вся особенная.