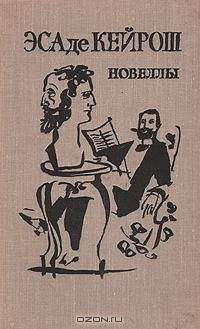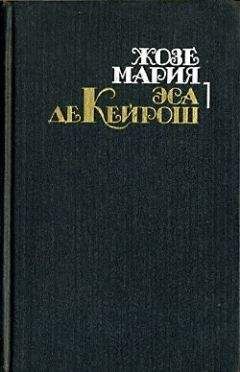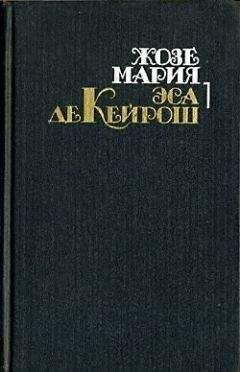Жозе Эса де Кейрош - Знатный род Рамирес
— Ах, как хорошо, как хорошо!..
Видейринья покурил немного и взялся за гитару. Луна уже поднялась из-за холмов, и лучи ее выхватили из мрака беленую стену, светлый кусок дороги, воду в большом водоеме; глубокий покой, исходивший от деревьев, лунного света, ночи, нежил и баюкал душу. Тито и Гонсало смаковали прославленный местный москатель, и в восторженном молчании слушали Видейринью; а он, в уголке, во тьме, услаждал их слух музыкой. Никогда еще славный певец не перебирал струны столь вдохновенно и нежно — даже поля, и опрокинутая чаща небосвода, и луна, сиявшая над холмами, заслушались его жалобной песней. В темноте, у веранды, покашливала Роза, мягко шуршали шаги батраков, приглушенно хихикали служанки, возилась собака, и казалось, что много, много народу стекается сюда на звуки гитары.
Шло время, все выше поднималась луна. Тито дремал, обильная еда нагнала на него сон. На закуску, как всегда, Видейринья с подъемом затянул «Фадо о Рамиресах»:
Горделиво и безмолвно,
В лунном серебре чернея,
Трепет каждому внушает
Башня Санта-Иренея.
На этот раз он приготовил новый куплет, любовно обработав ученую справку падре Соейро. В этой строфе воспевался некий Пайо Рамирес, магистр ордена Храмовников, которого и папа Иннокентий, и королева Бланка Кастильская, и все христианские владыки умоляли поскорей собрать войско и идти на выручку Людовику Святому *, томившемуся в плену:
Уповает лишь на Пайо
Христианская земля:
Пусть он рыцарей скликает
И спасает короля!
Столь героический предок заинтересовал даже Гонсало, и он стал подпевать жиденьким фальцетом, подняв руку:
Ах! Пусть рыцарей скликает
И спасает короля!
Дуэт разбудил Тито, он открыл глаза, неуклюже поднялся с кушетки и объявил, что пора домой:
— Больше не могу! С четырех часов утра, как уехал из усадьбы, так и мотаюсь, словно пес. Черт, я бы сейчас дал корону за осла, как этот, как его, греческий царь!
Тогда, осмелев от коньяка, Гонсало тоже встал и сказал почти весело:
— Вот что, Тито, подожди еще минутку, мне надо с тобой поговорить.
Он взял один из подсвечников и пошел в столовую, где стоял запах магнолий, увядающих в вазе. Тито, несколько встряхнувшись, последовал за ним. И сразу, без обиняков, решительно глядя прямо в глаза другу, фидалго сказал:
— Ответь мне честно, Тито! Ты много бывал в «Фейтозе»… Что ты думаешь о доне Ане?
Тито сразу отрезвел, словно над ним грянул выстрел, и уставился на Гонсало:
— Как? На что тебе?
Гонсало прервал его, чтобы разом покончить дело:
— От тебя у меня нет секретов. В последнее время я говорил с ней раза два, встречался… Словом, если бы я решил жениться на ней, у меня есть основания считать, что она бы согласилась. Ты бывал в «Фейтозе». Ты ее знаешь. Что она за человек?
Тито резко скрестил руки:
— Ты женишься на доне Ане?
— Ах, господи, ни на ком я не женюсь! Ты уж подумал, что я сейчас бегу в церковь… Пока я просто собираю сведения. А кто же может рассказать мне о ней правдивей и откровенней, чем ты? Мы — друзья, ты ее знаешь…
Не разнимая скрещенных рук, Тито обратил к Фидалго из Башни свое честное, серьезное лицо:
— Ты хочешь на ней жениться, ты, Гонсало Мендес Рамирес?..
Гонсало нетерпеливо махнул рукой:
— Знаю, все знаю: благородство крови, дедушка Пайо…
Тито даже взревел от гнева:
— Причем тут кровь! Пойми, порядочные люди не женятся на таких, как она! Благородство? Да, благородство сердца и души!
Гонсало онемел. Потом, стараясь говорить спокойно, призвал друга к логике:
— Допустим. Значит, ты что-то о ней знаешь… Я знаю только, что она богата и красива, и еще, что она скромна, потому что ни здесь, ни в столице не было о ней сплетен. На такой женщине вполне можно жениться… Но ты говоришь, что жениться на ней нельзя. Следовательно, ты что-то знаешь… Я тоже хочу знать.
Тито молчал. Неподвижно стоял он перед фидалго, словно петля захлестнула и душила его. Наконец, еле ворочая языком, он заговорил:
— Здесь не суд, я не свидетель. Ты спрашиваешь меня без околичностей, можно ли на ней жениться? Я без околичностей отвечаю: нельзя. Какого черта тебе еще нужно?
Гонсало обиделся:
— Чего мне нужно? Побойся бога, Тито!.. Представь себе на минуту, что я влюбился в дону Ану… или, скажем, что мне крайне важно жениться на ней! Я не влюблен, и жениться мне не нужно, но ты представь! Разве можно отговаривать друга, не приводя ни доводов, ни веских доказательств?..
Тито опустил голову и в полном отчаянии заскреб обеими руками в затылке.
— Слушай, Гонсало, я устал. Ты в церковь пока не бежишь, она — тем более, ведь прежний муж еще остыть не успел. Поговорим завтра.
Он шагнул на веранду и зычно крикнул Видейринье:
— Пошли, поздно уже! Играй отбой! Я не спал с четырех утра.
Видейринья, колдовавший над холодным грогом, поспешно осушил чашу и взял драгоценную гитару. Гонсало их не удерживал; недружелюбная уклончивость друга обидела его. Тихо, как тени, прошли они через зал, где дремали клавикорды, к которым с восемнадцатого века не притрагивался ни один Рамирес. На площадке лестницы Гонсало поднял подсвечник, чтобы посветить гостям. Тито прикурил от свечи. Его волосатая рука дрожала.
— Так договорились?.. Я приду завтра утром, Гонсало.
— Когда хочешь, Тито.
В сухом ответе фидалго было столько обиды, что Тито замешкался на верхних ступеньках. Потом, тяжело ступая, пошел вниз.
Видейринья был уже на дворе и любовался ясным звездным небом.
— Какая ночь, сеньор доктор!
— Прекрасная ночь, Видейринья… Спасибо. Сегодня ты превзошел себя.
Не успел Гонсало вернуться в портретную и поставить подсвечник, как вдруг загремел зычный голос Тито:
— Гонсало, пойди сюда.
Фидалго бросился вниз. За тополями, на залитой лунным светом дороге, Видейринья настраивал гитару. Тито ждал, сдвинув шляпу на затылок, и, как только Гонсало появился в освещенных дверях, сказал ему:
— Гонсало, ты обиделся… Не надо! Я не хочу, чтоб мы ссорились. Так и быть, слушай! Ты не можешь жениться на этой женщине, потому что у нее был любовник. Не знаю, первый или не первый. Знаю только, что нет на свете второй такой распутницы и лгуньи. Больше не спрашивай. Помни одно: у нее был любовник. За это я могу поручиться, а ты сам знаешь — я никогда не лгу. Он резко повернулся и пошел прочь, сгорбив могучие плечи. Гонсало застыл на ступеньках, глядя на тополя, неподвижные, как он сам. В молчании лунной ночи прозвучало непоправимое слово — и рухнула в грязь манящая мечта о доне Ане, о ее красоте, о ее двухстах тысячах! Гонсало медленно поднялся к себе. Над высоким пламенем свечи на темном холсте портрета желтое, сухое лицо с дерзко вздернутыми усами внимательно и настороженно глядело на него. А далеко, над спящею землей, лилась простодушная песня Видейриньи во славу великого рода:
Уповает лишь на Пайо
Христианская земля:
Пусть он рыцарей скликает
И спасает короля!
X
До поздней ночи Гонсало шагал по комнате и горько думал о том, что всегда, всю жизнь (чуть ли не со школьной скамьи!) он подвергался непрерывным унижениям. А ведь хотел он самых простых вещей, столь же естественных для всякого другого, как полет для птицы. Ему же раз за разом эти порывы приносили только ущерб, страданья и стыд! Вступая в жизнь, он встретил наперсника, брата, доверчиво привел его под мирный кров «Башни»— и что же? Мерзавец овладевает сердцем Грасиньи и самым оскорбительным образом покидает ее! Затем к нему приходит такое обычное, житейское желание — он хочет попытать счастья в политике… Но случай сталкивает его с тем же самым человеком, ныне находящимся у власти, которую он, Гонсало, так презирал и высмеивал все эти годы! Он открывает вновь обретенному другу двери «Углового дома», доверяясь достоинству, честности, скромности своей сестры, — и что же? Она бросается в объятия изменнику без борьбы, в первый же раз, как остается с ним в укромной беседке! Наконец он задумал жениться на женщине, наделенной и красотой и богатством — и тут же, сразу, является приятель и открывает ему глаза: «Та, кого ты выбрал, Гонсало, — распутница, низкая блудница!» Конечно, нельзя сказать, что он любит эту женщину высокой, благородной любовью. Но он ради собственного комфорта решился отдать в ее прекрасные руки свою неверную судьбу; и снова на него неотвратимо обрушивается привычный, унизительный удар. Поистине, безжалостный рок не щадит его!
— И за что? — бормотал Гонсало, меланхолически раздеваясь. — Столько разочарований за такой недолгий срок… За что? Несчастный я, несчастный!