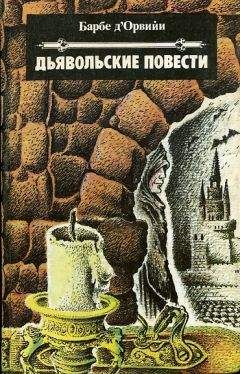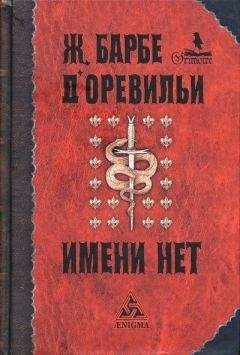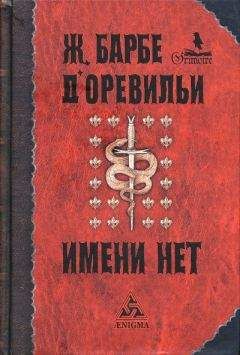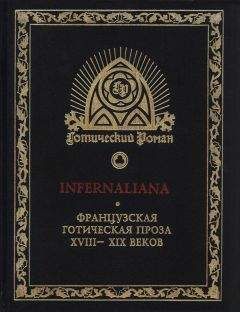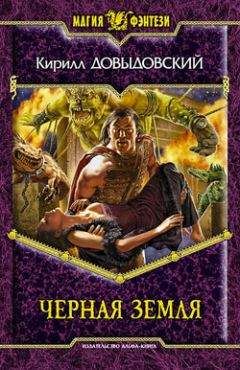Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Те, что от дьявола
— Расскажите же, — попросил де Тресиньи, снедаемый любопытством, какого не испытывал еще ни разу — ни в жизни, ни в театре, ни за чтением романа. Он ожидал чего-то небывалого, неслыханного. Для него умерла даже красота этой женщины. Он смотрел на нее так, как если бы готовился участвовать во вскрытии умершей и хотел бы знать, не воскреснет ли она для него.
— Не раз я хотела рассказать свою историю, — заговорила она, помолчав, — но сюда поднимаются не за тем, чтобы слушать. Стоило мне начать, как меня прерывали или закрывали за собой дверь, — животные, насытившиеся тем, за чем приходили. Надо мной смеялись, меня оскорбляли, называя лгуньей или сумасшедшей. Мне никто не верил, но вы мне верите. Вы видели меня в Сен-Жан-де-Люз, увенчанной, будто короной, именем Сьерра-Леоне, в блеске счастья, гордости, величия, — на вершине жизни. Теперь я волочу это имя на подоле моего платья по мыслимой и немыслимой грязи, как когда-то лошадь волокла на хвосте герб обесчещенного рыцаря. Я ненавижу имя Сьерра-Леоне и ношу его только для того, чтобы позорить, потому что принадлежит оно самому знатному вельможе Испании, самому гордому из всех тех, кому позволено не снимать шляпы в присутствии его величества короля. Дон Кристобаль считает себя в десять раз знатнее, чем любой король! Что значат для герцога д’Аркос де Сьерра-Леоне самые прославленные дома и фамилии, которые властвовали над Испанией, — Транстамаре[147], Кастилия, Арагон, Габсбурги, Бурбоны?.. Его род гораздо древнее. Он — потомок первых готских королей[148] и через Брунгильду[149] в родстве с французскими Меровингами. Он гордится тем, что в его жилах течет только голубая кровь, которой во всех остальных старинных семействах, унижавших себя неравными браками, осталось по нескольку капель. Герцог герцогства Сьерра-Леоне и нескольких других герцогств не уронил себя браком со мной, ибо я из древнего и знатного рода, берущего свое начало в Италии, я — последняя из рода Турре-Кремата и достойна своего имени, которое означает «горящая башня», потому что горю в адском пламени. Великий инквизитор Торквемада[150] тоже принадлежал роду Турре-Кремата, но и он за всю свою жизнь причинил боли меньше, чем таится в моей проклятой груди… Турре-Кремата горды не меньше, чем Сьерра-Леоне. Разделившись на две ветви, обе равно знатные и славные, наш род на протяжении веков властвовал и в Италии, и в Испании. Когда в пятнадцатом веке один из Борджа стал папой Александром VI, его семейство, опьяненное успехом, поторопилось породниться со всеми королевскими домами Европы. Они объявили себя и нашей родней, но Турре-Кремата с презрением отвергли их притязания, и двое из нас поплатились жизнью за отвагу и высокомерие — говорят, Цезарь Борджа их отравил. Мой брак с герцогом был династическим. Ни с его стороны, ни с моей не предполагалось никаких чувств. Представительница дома Турре-Кремата заключила брачный союз с представителем дома Сьерра-Леоне, два знатных семейства объединили свои интересы. Что могло быть естественнее для меня, воспитанной в строгих правилах этикета старинных испанских домов, образцом которого служит Эскориал? Жесткий, всеобъемлющий этикет, он запрещал биться и сердцу, но оно оказалось сильнее тесного стального корсета. Мое сердце… полюбило дона Эштевана. До того, как я его встретила, мой брак оставался для меня серьезной и важной церемонией, каким издавна был в церемонной католической Испании, но теперь он остался таким лишь в нескольких родовитых семьях, особенно приверженных древним традициям. Герцог де Сьерра-Леоне, испанец из испанцев, не мог не дорожить стариной. Французы считают Испанию страной высокомерной, молчаливой, сумрачной и важной, таков и герцог де Сьерра-Леоне. Гордец из гордецов, он мог жить только на собственной земле и выбрал резиденцией старинный замок на границе с Португалией, не отступая и в жизни от феодальных порядков. Я жила подле него, деля с ним однообразную, лишенную всякого веселья, величавую и пышную жизнь, не видя никого, кроме духовника и своих камеристок. Более слабую душу истомила бы скука, но меня растили супругой испанского гранда, ею я и была. Исполнение религиозного долга — вот главная обязанность высокородных испанок, которую с должной тщательностью исполняла и я, ледяным бесстрастием походя на портреты прабабок, — затянутые в корсеты, в плоеных воротниках, они сурово и важно взирали со стен парадных залов замка Сьерра-Леоне. Во всем я была им под стать, безупречная, величественная супруга гранда, чью добродетель оберегает гордость надежнее, чем лев — источник. Одиночество не тяготило меня, я жила в безмятежном покое, которым веяло от горных вершин вокруг замка, и даже не подозревала, что гранитные твердыни могут обратиться в огнедышащие вулканы. Еще нерожденная, я пребывала в лимбе, и только взгляд мужчины вызвал меня к жизни и крестил огнем. Дон Эштеван, маркиз де Вашконселуш, португалец по происхождению и кузен герцога, приехал в Сьерра-Леоне. О существовании любви я знала только из мистических религиозных книг, но она упала с небес на мое сердце, как орел падает на ребенка, а тот бьется и кричит… Я тоже кричала, когда гордость нашего древнего рода возмутилась той властью, какую возымел дон Эштеван над моими чувствами. Я попросила герцога под любым предлогом и как можно скорее удалить кузена из замка… Сказала, что заметила в нем любовь ко мне, а эта неслыханная дерзость для меня оскорбительна. Дон Кристобаль ответил так же, как герцог де Гиз на предупреждение, что Генрих III убьет его. «Не осмелится…» — с высокомерной улыбкой уронил он. Нельзя пренебрегать гласом судьбы: его предупреждения имеют обыкновение свершаться. Герцог сам подтолкнул меня к дону Эштевану…
Герцогиня на секунду замолчала; де Тресиньи, внимательно слушавший ее рассказ, нисколько не сомневался, что перед ним благородная дама — никто другой не мог говорить столь возвышенно. Бульварной девки больше не существовало. Казалось, упала маска, открыв подлинное лицо, истинный облик. Бесстыдное тело вновь обрело целомудрие. Продолжая говорить, женщина взяла лежавшую рядом шаль и завернулась в нее… Она стянула ее на своей проклятой, как она сказала, груди, не потерявшей, несмотря на постыдную жизнь, девственной упругости. Даже голос уже не хрипел, как хрипел на бульваре… Или голос забылся под впечатлением истории? Нет, де Тресиньи не ошибся, голос обрел чистоту и достоинство.
— Не знаю, — вновь заговорила она, — похожа ли я на других женщин, но для меня непомерная гордыня дона Кристобаля, его презрительный равнодушный ответ: «Не осмелится…» — в отношении мужчины, которого я полюбила, стали оскорблением — я оскорбилась за того, кто завладел всем моим существом, заменив мне Господа Бога.
«Докажи, что осмелишься», — сказала я дону Эштевану в тот же вечер, открыв ему свою любовь. Но мне не надо было и просить. Эштеван обожал меня с первого дня, с первого мига, как только увидел. Пистолетные выстрелы любви грянули для нас одновременно и сразили наповал. Свой долг жены-испанки я исполнила, предупредив дона Кристобаля. Он распоряжался моей жизнью, потому что был мне мужем, но не сердцем, сердце в подчинении у любви. Дон Кристобаль мог убить меня и убил бы, удалив из замка дона Эштевана, как я того хотела. Открыв свое неразумное сердце безумию любви, я бы умерла, не видя больше любимого, но смерть стала бы для меня счастьем, и я была к ней готова. Но мой муж, герцог, не понял меня, он счел, что находится в безопасности, поставил себя выше Вашконселуша и решил, что дон Эштеван не посмеет поднять на меня глаза и не удостоит чести своей приязни, и я отказалась защищать крепость супружества от любви, ставшей для меня госпожой. Мне трудно вам объяснить, что это была за любовь. Может, и вы мне не поверите… Но что мне за дело, поверите или нет! Любовь палила нас огнем и оставалась все такой же чистой, рыцарственной, романтичной, почти идеальной, почти мистической. Нам едва исполнилось по двадцать, и мы были из страны Бивара, Игнатия Лойолы и святой Терезы[151]. Игнатий, рыцарь Пречистой Девы, любил Царицу Небесную с той же чистотой, как меня дон Эштеван, а я любила его экстатической любовью святой Терезы, обращенной ею к Небесному Супругу. Адюльтер? Ни о чем подобном мы и не думали. Сердца стремили нас так высоко, мы жили так блаженно и так возвышенно, что никакие желания грубой чувственности не касались нас. Мы жили в небесной синеве, но синева была африканской и раскалена, как огонь. Долго ли мог продлиться экстаз? Возможно ли, чтобы экстаз длился? Не играли ли мы, сами того не ведая, в опаснейшую для слабых земных созданий игру и не должны ли были низвергнуться с небесных высот?.. Эштеван был набожен, как священник или португальский дворянин времен Албукерки[152], я не так набожна, но его вера питала мою, и его чистая любовь поддерживала чистый пламень моей. Я была в его сердце мадонной в золотом киоте, и он теплил лампаду любви — негасимую лампаду. Дон Эштеван любил во мне душу и заботился о моей душе. Он был из тех редких влюбленных, которым нужно величие в обожаемой женщине. Он ценил благородство, преданность, отвагу и хотел, чтобы я обладала величием женщин тех времен, когда Испания была великой. Доброе дело, сделанное мной, было для него отрадней, чем возможность держать меня в объятиях во время танца, сливая свое дыхание с моим. Если ангелы могут любить друг друга возле престола Господа, то они любят так, как любили мы. Мы проводили долгие часы наедине друг с другом и в своем уединении могли позволить себе все, но, сидя рука об руку, чувствовали себя настолько счастливыми и такими близкими, что ничего большего не желали. Иной раз ощущение счастья было так велико, что становилось непереносимым, и мы чувствовали его как боль и хотели тогда умереть, но умереть вместе, один во имя другого, и понимали, что хотела сказать святая Тереза, говоря: «Умираю потому, что не могу умереть!» Она выразила желание смертного, конечного существа, охваченного бесконечной любовью: разбив скудельный сосуд, приняв смерть, она растворилась бы в океане любви. Сейчас я последняя из последних, но — поверите ли? — губы Эштевана ни разу не коснулись моих, и когда он касался губами розы, а я подхватывала его поцелуй с розовых лепестков, то едва не теряла сознанье. В адской бездне, куда бросилась по собственной воле, я, множа свои муки, вновь и вновь возвращаюсь мыслями к божественным радостям чистой любви, которым мы предавались с таким самозабвением и с такой невинной откровенностью, что дону Кристобалю не составило труда понять: мы обожаем друг друга. Мы жили на небесах. Могли ли мы заметить, что он ревнует? А он ревновал, да еще как! В нем возопила уязвленная гордыня, ни на какое другое чувство он не был способен. Нет, он не подстерег нас — подстерегают тех, кто прячется. Мы не прятались. Зачем? Мы горели свечами средь бела дня и светились счастьем, какого нельзя не заметить, и герцог заметил. Сияние нашей чистой любви слепило глаза его гордости. Так дон Эштеван все-таки осмелился?! И его жена тоже?! Однажды вечером мы, как обычно, сидели вместе и смотрели друг на друга, ощущая такую полноту блаженства, что и помыслить не могли ни о каких других ласках. Дон Эштеван опустился передо мной на колени, словно перед Девой Марией, и не отрывал своих глаз от моих. Вдруг в покои вошел герцог с двумя темнокожими слугами, которых он привез из испанских колоний, где долго был губернатором. Мы его и не заметили, наши души, соединившись, унеслись в небеса, — и вдруг Эштеван уткнулся головой мне в колени… Его задушили! Негры набросили ему на шею лассо, каким в Мексике ловят диких быков. Все произошло молниеносно. Но молния убила моего возлюбленного и оставила в живых меня. Я не упала без чувств, даже не вскрикнула, ни единой слезники не выкатилось у меня из глаз. Сидела онемев, окаменев от несказанного ужаса и пришла в себя от нестерпимой боли — мне будто раздирали внутренности, из живой груди рвали сердце. Но сердце вырвали не у меня, его вырвали из груди мертвого Эштевана, который лежал у моих ног! Черные чудовища разодрали ему грудь и копались в ней! Любовь слила нас с Эштеваном в одно, и я чувствовала все, что чувствовал бы он, останься в живых. Мне досталась вся боль, какой уже не чувствовал он, боль и вывела меня из оцепенения сковавшего меня ужаса, когда я увидела своего возлюбленного мертвым. «Теперь очередь за мной!» — крикнула я, бросаясь к убийцам.