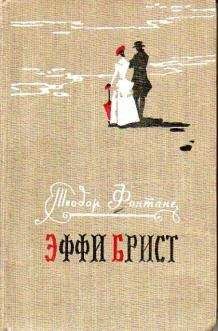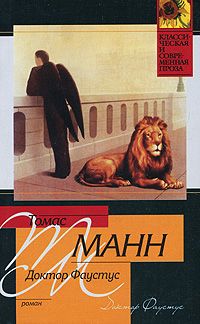Томас Манн - Доктор Фаустус
Да, восхищение и печаль поразительно сливались у слушателя этой музыки. «Как прекрасно! — говорило сердце, по крайней мере моё так говорило, — и как грустно!» Ибо восхищение относилось к остроумно-меланхолическому фокусу, к подвигу рассудочности, который следовало бы назвать героическим, к усилию, которое прикидывалось задорной пародией и которое я не могу определить иначе, чем назвав его вечно напряжённой и напряжённо-головокружительной игрой искусства на грани невозможного. Она-то и навевала грусть. Но восторг и грусть, восторг и тревога — разве это почти не определение любви? Болезненно-напряжённая любовь к нему и к его доле — вот что испытывал я, слушая музыку Адриана. Отзыв мой был немногословным; Шильдкнап, всегда выступавший в роли компетентной, восприимчивой публики, прокомментировал услышанное гораздо находчивее и разумнее, чем я, который и потом ещё, за pranzo[92], оцепенев и углубившись в себя, сидел за столом Манарди во власти отвергнутых этой музыкой чувств. «Bevi! Bevi![93] — говорила падрона. — Fa sangue il vino!» И Амелия, водя ложкой у глаз, бормотала: «Spiriti? Spiriti?..»
То был уже один из последних вечеров, которые мы — моя добрая жена и я — провели в оригинальном убежище друзей. Через несколько дней, погостив у них три недели, мы уехали домой, в Германию, а они ещё долго, до самой осени, оставались верны идиллической размеренности бытия в кругу монастырского сада, семейных трапез, маслено-золотых итальянских закатов и каменной гостиной, где коротали вечера за чтением при свете ламп. Так прошло у них лето и в прошлом году, да и зимой, в городе, быт их не очень-то отличался от здешнего. Они жили на Виа Toppe Арджентина, близ театра Костанци и Пантеона, у домовладелицы, готовившей им завтраки и ужины. Обедали они в соседней траттории за помесячную плату. Роль палестринского монастырского сада исполняла в Риме вилла Дориа Панфили, где они в тёплые весенние и осенние дни располагались для работы у величавого фонтана, к которому время от времени подходила напиться корова или стреноженная лошадь. Адриан редко пропускал послеполуденные концерты городского оркестра на пьяцца Колонна. Иногда вечер посвящали опере. Как правило, однако, его проводили за домино и стаканом горячего апельсинового пунша в тихом уголке кафе.
Никакого другого общения с людьми — или почти никакого — у них не было; в Риме они жили, пожалуй, так же замкнуто, как в деревне. Немецкого элемента они упорно избегали, особенно Шильдкнап, неукоснительно обращавшийся в бегство при первом же звуке родной речи; он способен был даже выйти из омнибуса или из железнодорожного вагона, едва завидев «germans»[94]. Но и с местными жителями, при таком уединённом или, точнее, двуединённом образе жизни знакомиться им почти не случалось. Дважды в течение зимы друзья были приглашены к одной покровительствовавшей искусству и людям искусства даме неопределённого происхождения, мадам де Коньяр, к которой у Рюдигера Шильдкнапа нашлось рекомендательное письмо из Мюнхена. В её квартире на Корсо, украшенной фотографиями с автографами в плюшевых и серебряных рамках, они заставали международную артистическую толпу — театральных деятелей, художников и музыкантов, поляков, венгров, французов, а также итальянцев, с большинством которых никогда больше не встречались. Иногда Шильдкнап покидал Адриана, чтобы вместе с молодыми англичанами, волею судьбы учуявшими родственную натуру, посетить мальвазийский кабачок, съездить в Тиволи или выпить у траппистов Кватро Фонтане эвкалиптовой водки и в отдохновение от изнурительных тягот переводческого мастерства поболтать с ними о всяких nonsense[95].
Словом, в городе, как и в глуши горного городка, они жили совершенно оторванной от мира жизнью целиком поглощённых своей работой людей. Сказать ли, что для меня лично, хотя я, как всегда, неохотно расставался с Адрианом, прощание с домом Манарди было связано с каким-то подспудным чувством облегчения? Ведь такое признание равносильно обязательству мотивировать это чувство, что мне нелегко будет сделать, не выставив себя, да и других вдобавок, в несколько смешном свете. Но так и быть. В одном определённом пункте, in puncto puncti[96], как любит говорить молодёжь, я был среди обитателей дома довольно комичным исключением. Я, так сказать, нарушал ансамбль по своему положению и образу жизни, будучи супругом, который отдаёт дань тому, что мы полуснисходительно-полупатетически именуем «природой». Ни один другой обитатель дома-замка на ступенчатом склоне этим не занимался. Наша чудесная хозяйка, госпожа Перонелла, давно уже вдовствовала, её дочь Амелия была глуповатым ребёнком. Братья Манарди — адвокат и земледелец — казались закоренелыми холостяками, и даже весьма вероятно, что ни тот, ни другой вообще никогда не прикасались к женщине. Был там ещё двоюродный брат Дарио, седой и кроткий, со своей маленькой болезненной женой, но, разумеется, эта пара предавалась утехам самого невинного свойства. И, наконец, были здесь Адриан и Рюдигер Шильдкнап, которые месяцами смиренно жили в этом спокойном и строгом, полюбившемся нам окружении, уподобляясь монахам близлежащего монастыря. Как же я, вульгарный семьянин, мог тут не испытывать угнетающей неловкости?
Об особом отношении Шильдкнапа к широкому миру заманчивых возможностей и его склонности скупиться на это богатство, скупясь на самого себя, я уже говорил. В упомянутой скупости я видел ключ к его образу жизни, объяснение не очень-то понятной для меня выдержки. С Адрианом дело обстояло иначе, хотя я сознавал, что общность целомудрия образует основу их дружбы или, если это слишком сильное слово, — союза. Подозреваю, что мне не удалось утаить от читателя некоторой ревности к отношениям Адриана с силезцем; пусть же читатель поймёт, что именно это сходство, это связующее их воздержание в конечном счёте и было объектом ревности.
Если Шильдкнап жил, так сказать, «баловнем потенциального», то Адриан — на этот счёт у меня не могло быть сомнений — после известной поездки в Грац, вернее в Братиславу, как, впрочем, и до неё, вёл жизнь святого. Но я содрогался при мысли, что с тех пор, после тех ласк, после кратковременного заболевания и утраты врачей, его целомудрие идёт не от этики чистоты, а от патетики скверны.
В его характере всегда было что-то от «Noli me tangere», — я это знал; его уклонение от слишком большой пространственной близости людей, когда один чувствует дыхание другого, от физического контакта было мне отлично знакомо. Он был в буквальном смысле слова человеком уклоняющимся, сторонящимся, соблюдающим дистанцию. Физические проявления сердечности никак не вязались с его натурой; даже руку он пожимал редко и как-то торопливо. Заметнее, чем когда-либо, эта особенность выступила наружу во время нашего недавнего совместного житья, причём мне казалось — сам не знаю почему, — будто его «не тронь меня!», его «отойди на три шага!» несколько изменило свой смысл, будто он не столько отвергает какое-то поползновение, сколько боится и избегает обратного поползновения, с чем явно и было связано его воздержание or женщин.
Только такая повышенно внимательная дружба, как моя, могла уловить или заподозрить подобную перемену, и упаси боже подумать, что это наблюдение умалило мою радость от близости Адриана! То, что с ним происходило, могло потрясти меня, но ни в коем случае не отдалить от него. Есть люди, с которыми нелегко жить и которых невозможно покинуть.
XXV
Документ, упоминания о котором неоднократно повторялись на этих страницах, — тайная запись Адриана, хранящаяся после его смерти у меня и оберегаемая как драгоценное, страшное сокровище, — вот он, я его здесь привожу. Биографический момент его оглашения настал. Так как мысли мои снова уже отвлеклись от облюбованного Адрианом убежища, где он жил в обществе силезца и где я его навестил, моя речь сейчас прервётся, и в этой двадцать пятой главе читатель услышит непосредственно его голос.
Только ли его? Ведь передо мной диалог. По преимуществу даже говорит другой, совсем другой, ужасающе другой, а склонившийся над бумагой в каменном зале только записывает услышанное. Диалог? Разве это в самом деле диалог? Надо рехнуться, чтобы поверить в такую возможность! Поэтому-то я думаю, что и он в глубине души не верил в реальность того, что видел и слышал: ни тогда, когда слышал и видел, ни позднее, когда записывал, — несмотря на цинизмы, которыми посетитель старался убедить его в своём объективном существовании. Если же никакого посетителя не было — меня ужасает сквозящая здесь готовность хотя бы условно допустить его реальность! — страшно представить себе, что все эти цинизмы, издёвки и выкрутасы тоже родились в душе посещённого…
Само собой разумеется, что Адрианову рукопись я не доверю печатнику. Собственноручно, слово в слово, я перенесу её с нотной бумаги, исписанной пером рондо, покрытой чёрными, архаичными завитками его мелкого, прямо-таки монашеского почерка, о котором уже говорилось, в свою рукопись. Нотной бумагой он воспользовался явно потому, что ничего другого под рукой не оказалось, впрочем, возможно, что в мелочной лавке внизу, у церкви св. Агапита, вообще не было хорошей писчей бумаги. На каждый верхний пятилинейный стан, как и на бас, приходятся по две строчки; по две строчки и в интервалах.