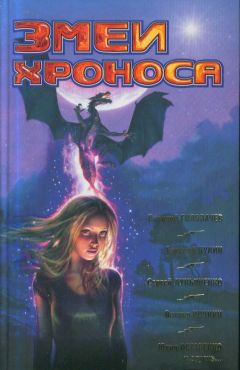Борис Житков - Виктор Вавич
— Восьмой донской! Восьмой! Черт тебя раздери, дура. — Он топал ногой и тряс старой головой. — Скорей!.. Ах, стерва!.. Передайте есаулу, чтоб на рысях… Давно?.. Передайте, что прошу, пошлите вестового, чтоб скорей. Прошу!.. Прошу!.. К чертовой матери — вы отвечаете!
Пристав бросил трубку, она закачалась, стукнула в стенку.
— А, сволочи! — он глянул на Вавича. — Торчит тут козлом! Стой у дверей, никого не пускать. Всех к черту!
Пристав завернул злую матерщину. Он стоял, запыхавшись, и водил глазами по пустой канцелярии. Помощник осторожно повесил трубку на крюк. И сейчас же раздался звонок.
— Вас! — крикнул помощник и пригласительно направил трубку на пристава.
— Кого еще, черт? Слушаю! — зло рявкнул пристав в телефон. И вдруг весь почтительно обтаял. Он заулыбался прокуренными усами. — Так точно, ваше превосходительство, маленькие неприятности. Кто-с?.. Так точно, Варвара Андреевна… Служит, служит, как же… Виктор… да-с, Виктор, — и вдруг пристав шагнул к Вавичу: — Как по батюшке? Вас, вас! Ну!
— Всеволодыч! — крикнул Виктор.
— Виктор Всеволодович, да, да-с… Очень, очень… Слушаю!.. Честь имею!..
Пристав повесил трубку и еще с той же улыбкой обратился к помощнику:
— Патроны выданы? — сказал все так же ласково. И вдруг перевел дух, широко открыл веки: — Вплоть до применения. Если флаг, черти, выкинут, — к дьяволу, чтоб никуда! Хождений… Я говорю, — а ни в зуб!
— Конечно, если уж хождения, — сказал обиженно черный помощник и даже головой повел в правый угол.
— И если флаг, флаг выкинут, — значит это что? Что это значит? — И пристав, красный, поворачивался то к помощнику, то к Вавичу: — Что это значит? Ну? Ну?
Виктор сочувственно мигал, не знал, как выразить, что понимает натугу пристава.
— Д�� что значит, — сказал помощник, — тут уж донцы.
— Значит, значит, вызов, вызов это значит. Значит, сами вызывают. Боевой флаг. А уж бой так бой. Я уж не знаю… коли бой… — Он вдруг устало перевел дух. — Дай папироску, черт с тобой, дай, — протянул руку помощнику.
Виктор мигом завернул рукой в карман и без слов протянул открытый портсигар приставу.
— Дрянь у тебя, должно быть, — страдальчески сморщился пристав и остановил пальцы над папиросами.
— Пожалуйте-с, «Молочные», — помощник щелкнул крышкой массивного серебряного портсигара. Портсигар — как ларец, и синим шелковым хвостом опускался фитиль с узлом и кистью.
Пристав взял у помощника. Виктор потянул свой назад.
— Дай, я и твоих возьму, Бог с тобой, — и пристав толстыми пальцами скреб в Викторовом портсигаре: то захватывал десяток, то оставлял в пальцах пару.
Телефон позвонил, и помощник уж слушал. А пристав еще рылся в маленьком портсигаре Вавича: набирал и пускал.
— Началось! — бросил помощник от телефона. Пристав, схватив десяток папирос, замер, подняв тяжелую грудь. У Виктора дрогнул портсигар в руке.
— Все во дворе… — говорил полушепотом помощник, — агитаторов слушают… похоже — выйдут… Меры приняты! — крикнул в трубку, как деревянным молотком стукнул, помощник.
— Голубчик, туда! — со стоном крикнул пристав.
— Вплоть до применения? — спросил помощник и твердо упер черные большие глаза в пристава.
— Где же эта сволочь? — кинулся к окну пристав.
— Если казаков не будет, — сказал помощник, — то применять?
— Что хотите, — крикнул пристав, — но чтоб хождений и флагов этих ни-ни!
— Слушаю, — сказал помощник.
— Этого тоже возьмите. В засаду, что ли, возьмите. Он хорош, ей-богу, хорош, — и пристав толкал Вавича в лопатку, толкал дружески, бережно: — Возьмите!
Вавич побежал по лестнице вслед за помощником пристава, а сам старик с лестницы кричал вслед:
— Мои санки берите! Пролетку! То бишь санки! Да, да! — санки.
Когда свернули за угол, — с раскатом, с лётом, — помощник сказал Вавичу в ухо, деревянно, как в телефон:
— У Суматохиной во дворе двадцать из резерва, в засаде. Кто бежит с площади — врываться в цепь и гнать к Суматохиной во двор. Потом в часть. Карасей отсеем, осетров на стол.
— Слушаю, — сказал Вавич, нахмурился для серьезу и вдруг оглянулся. Оглянулся на шум. Шум частых, острых ног, легких и звонких. Серым табунчиком шла в улице полусотня казаков. Легонькие лошадки семенили ножками. Над ними из-под синих фуражек, из-под красных околышей торчали лихие чубы русым загибом. Казаки шли рысью. У ворот стояли бабы, глядели на казаков, выпучив испуганные глаза. Некоторые крестились.
Какой-то мальчишка завыл и бросился бегом вдоль по улице. Хлопали калитки, и в окнах мутно белели бледные лица.
Помощник дернул за пояс кучера. Санки стали. Впереди казаков офицер поднялся на стременах и винтом вывернулся назад, поднял вверх руку с нагайкой. Казаки остановились. Бойкой рысью хорунжий подъехал к санкам, нагнулся. Помощник встал.
— Направо в переулке станьте. Я пошлю, и тогда уж действие ваше.
Санки тронули.
Налету помощник обернулся назад и махнул рукой в переулок.
Уже видна стала огромная площадь перед заводом, белая, снежная, и заводская труба на сером небе, без дыма, и, казалось, криво неслась в небе на хмурых облаках. За два дома до площади помощник кивнул на ворота и сказал:
— Здесь, и не зевать!
Виктор выскочил. Сердце билось. Он стукнул в калитку. Оторвалась щелка, в ней, прищурясь, стоял городовой, — увидал и распахнул.
И опять на Виктора глянули из окон бледные лица, испуг бродил по ним: полуоткрытые рты и зыбкие брови высоко на белом лбу.
Виктор огляделся. Двор был пуст, и только в дверях дальнего флигеля Виктор заметил черную шинель.
— Двадцать вас? — спросил Виктор городового. — Старшего ко мне!
И грудь высоко задышала.
В заводском дворе все еще возились около ворот. Толпа напирала.
— Зубило, давай зубило! Кувалдой бей!
И действительно, через минуту сквозь гул толпы звезданула кувалда, и крикнуло, заохало железо. Над головами торчал толстый, как бревно, рукав тулупа, — сторож поднял ключ и пробивался. Его оттерли, и он болтал в воздухе ключом. Вся толпа примолкла, все сжали зубы и слушали, как зло садила кувалда. И вдруг зазвенело, покатилось и взорвало голоса. Ворота раскатились в стороны, и с гулом повалила густая толпа. Мальчишки выбежали вперед, и следом выкатилась тачка. Люди держались рукой за борта и не чувствовали усилия, — казалось, тачка ехала сама, сама их вела вперед, мягко подскакивала по снежным кочкам.
Марш, марш вперед,
Рабочий народ… -
едва слышен был шум песни за гомоном голов. И вдруг из переулка, с той стороны площади: рысак и легкие санки бойко, размашисто катили прямо к толпе. Полицейский с черными твердыми усами подкатил, завернул и стал поперек хода толпы в десяти саженях.
Шум замирал, пока он ехал, и на мгновение замер, когда стала лошадь, только песня стала слышней.
Полицейский встал в санях. Нахмурил черные, как накрашенные, брови. Он поднял руку и крикнул раздельно, как команду:
— Ребята! ррразззайдись мирно по домам. Зачем безззобразие!
И тут свист неистовый дунул, как с земли поднялся, и закружился вихрем. И, будто поднятый свистом, полетел из толпы снежный ком и ударил в лошадь, рассыпался. Другой, и вдруг замелькали в воздухе белые комья. Полицейский закрылся локтем, санки дернулись, круто завернули и помчали прочь под свист и гогот.
А песня пошла бойчей, чаще и дальше, дальше двинулся народ. Пели все, и вдруг все оглянулись: среди толпы, над голосами, ярко вспыхнул красный флаг и заполоскал огненным языком на морозном ветру.
Толпа уж залила полплощади.
И вот черная кучка городовых выступила из переулка, стала растягиваться в цепь, и еще вывалило черное из-за угла. Жиденькая ленточка против плотной, ярой толпы, и толпа дружным ревом всполохнулась, двинула быстрей… И вдруг выстрел, револьверный выстрел, жалкий, будто откупорили бутылку, — его слышали только в первых рядах, — выстрел из толпы. Раз и два: «Пам, пам!»
И тут, как хлестнуло что по всей толпе, — толпа стала, шатнулась: из проулка, прямо напротив, вылетели казаки.
Они раскинулись вмиг, как захлестнули толпу, на скаку — и видно было — без удержа, без времени, они мигом повернули лошадей и полным махом полетели на людей, как в открытое поле.
Голоса оборвались. Было мгновение тишины. И вот нечеловеческий вой поднялся к небу, как взвыла земля. Передние метнулись, легли наземь, закрыв руками головы, закрыли глаза. Лошади врез��лись с маху в толпу, стоптали первых, сбили грудью, и казаки, скривив губы, стали остервенело наотмашь молотить нагайками, не глядя, по головам, по плечам, по вздетым рукам.
Флаг зашатался в судороге, в страхе. Покосился и упал в толпу. Люди рвались, топтали, сбивали друг друга и выли, и вопль ярил казаков. Люди бежали через площадь, закрыв голову руками, не глядя, не видя, не зная, что кровь бежит из рассеченной головы, бежали прямо на городовых, бежали в топкий пруд, губы бились, и лай выходил из горла, дробный лай, как плач.