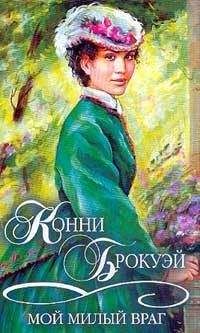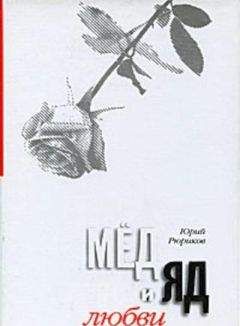Александр Сеничев - Александр и Любовь
Известно также, что позже Анна Ахматова попросила Александру Павловну прийти к ней вместе с сыном Андреем. И внимательно посмотрев на мальчика, сказала:
- Похож. Тот же овал лица, те же кудри.
Мы ничего не утверждаем. Возможно, дочерью поэта Александру Павловну Люш сделали охочие до сенсаций журналисты. Ее реакция: «Что со мной говорить? Я гипотетическая! Почему-то считают, что я таким образом пытаюсь самовыражаться. А ведь я до определенного времени вообще избегала разговоров о моем происхождении».
Отказалась она и от поисков генетических доказательств родства с Блоком:
- Зачем? У меня в этом нет никаких сомнений, а кому-то что-то доказывать я не собираюсь.
Стихи писать никогда не пробовала. А вот рисовать стала рано. Закончила художественное училище и всю жизнь проработала художником-декоратором в ленинградских театрах - в Малом оперном, в Пушкинском, в Большом Драматическом. Закончила трудовую деятельность в Мариинке. На вечере в БДТ, посвященном 100-летию Александра Блока, главный машинист сцены подвел Александру Люш к нашему любимому блоковеду -Владимиру Орлову. Вот, мол, дочь.
- Я в курсе, но я написал книгу о Блоке, и в мою концепцию биографии поэта вы не вписываетесь, - отчеканил тот Александре Павловне.
Однажды в гости к ней пришла приятельница и - чего уж еще ждать от художниц - принялась рисовать портрет хозяйки. Ошарашены были обе: в результате получился портрет Блока. И эта последняя капля, точно так же как и вам, показалась нам откровенной байкой. И мы полезли в Интернет. И безо всякого труда нашли там фото А.П.Люш. Она действительно похожа на Блока больше, чем сам Блок.
Его прощальный поклон.
Той весной по настоянию близких Блок обратился к опытному терапевту А.Г.Пекелису. Помимо осознания творческого бессилия и предельного домашнего неуюта, он уже серьезно страдал и физически. Невыносимо болели и пухли руки, ноги. Его ужасные боли в ногах приписываются загадочной подагре, а опухоли и перевязанные из-за одолевшего фурункулеза пальцы - цинге. Бессонница, одышка, боли в груди, то и дело - жар.
Доктор нашел у пациента «инфлюэнцу с легкими катаральными явлениями» и тогда же отметил невроз сердца в средней степени (легкая аритмия, незначительное увеличение поперечника и т.п.). Немотивированные перепады температуры он отнес на счет «послегриппозного хвоста».
С этим-то хвостом Блок и укатил в первопрестольную.
Поездка сильно разочаровала Блока.
«Лекция вышла дрянь. Сбор неполный», - вспоминал Чуковский. Блок даже не хотел выступать. Наконец согласился - и «механически, спустя рукава прочитал четыре стихотворения». Публика встретила его не теми аплодисментами, к каким он привык. Он ушел в комнату. Невскоре вернулся и продекламировал стихи Фра Филиппо Липпи - по-латыни, без перевода.
«Зачем вы это сделали?» - удивился Чуковский, - «Я заметил там красноармейца вот с этакой звездой на шапке. Я ему и прочитал». На другой день он твердил одно и то же: какого черта я поехал? Через пару дней - чтение в Доме Печати, некий товарищ Струве заявил: «Все это мертвечина, и сам товарищ Блок - мертвец». Блок - за занавеской: «Верно, верно! Я действительно мертвец». Потом были чтения в Итальянском обществе, в Союзе Писателей. На обратном пути поэт то и дело доставал пересчитывал деньги... Там же, в Москве, он успел побывать у доктора, который не нашел ничего кроме истощения, малокровия и глубокой неврастении.
«Я мертвец».
Он понял и принял это еще несколько месяцев назад. В феврале, на вечере, посвященном памяти Пушкина, где произнес последнюю и, может быть, лучшую в своей жизни речь - речь-вопль.
Несмотря на ограниченный вход (только по пригласительным билетам) зал Дома литераторов был переполнен. Блок на эстраде - в черном пиджаке поверх белого свитера. Руки в карманах. Зал слушает, практически не дыша. Включая Гумилева - демонстративно опоздавшего и явившегося к середине речи во фраке и под руку с дамой, дрожащей от холода в глубоко декольтированном черном платье. «На свете счастья нет, но есть покой и воля.» - цитирует Блок, поворачивается к сидящему на сцене обескураженному чиновнику, и отчеканивает: «. покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю - тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». После подобной декларации, оглашенной к тому же практически с трибуны, поэту-пророку оставалось только умереть. И теперь здесь, в Москве, где восемнадцать лет назад он был коронован как лучший из лучших, какая-то сявка облаивает его как покойника. И тогда Блок опять становится самим собой - последним русским поэтом-дворянином (последним, как говорил Чуковский, русским поэтом, «кто мог бы украсить свой дом портретами дедов и прадедов»). И читает краснозвездной публике стихи на недоступном ей языке. Понимая и упрекая, что ли, в том, что и по-русски-то она понимает не больше. На одном из тех чтений присутствовал и Маяковский. «Я слушал его в мае этого года: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал свои старые стихи о цыганском пении, о любви, а прекрасной даме, -дальше дороги не было. Дальше смерть». Смерти приговорившего себя поэта ждали теперь все.
Он вернулся в Петроград 11 мая. Любовь Дмитриевна встретила его в коляске все того же Белицкого. «Я готов был плакать» - признается Блок дневнику. Да что там коляска! - в Москве беременная Нолле-Коган встречала поэта еще на одном царском (Каменевском теперь) автомобиле с огромным красным флагом. И вежливый Блок поехал прямиком к Каменевым в Кремль - благодарить. Тут опять же трудно удержаться и не вспомнить реплику из одного его письма: «Слов неправды говорить мне не приходилось».
Кто из писателей его поколения, - восторженно вопрошают блоковеды, - оглядываясь на свой жизненный путь, мог бы сказать то же самое о себе?
Да каждый первый, отвечаем мы за «писателей его поколения». Все они, даже записанные в великие, были нормальными людьми, и, когда было нужно, произносили самые разные слова. Есенин - Троцкому, Пастернак -Сталину, Блок вот - Каменеву.
А, как торговался он в ту московскую неделю по поводу перепродажи «Розы и Креста» другому театру (кроивший репертуар Станиславский пьесу в последний момент отверг)!.. Суету с перепродажей Блок сам с удовольствием описывает в дневнике: «Каменный Немирович дал мне только 300 тысяч... Стали думать, кому перепродать... Управделами Бриаловский вычислил, что если приравнять меня к Шекспиру и дать четвертной оклад лучшего режиссера РСФСР, нельзя мне получить больше 1У миллиона». Чувствовавший за собой вину Станиславский звонил каждый вечер - предлагал устроить вечер «для избранной публики», предлагал платную генеральную репетицию оперной студии с ним, предлагал продажу каких-нибудь стихов для Государственного издательства - за те же полтора миллиона (предложение самого Луначарского). «От всего этого я, слава богу, сумел отказаться». Странное какое-то «слава богу», ей богу: поехал заработать, в Политехникуме «за гроши» читал, а от избранной публики уклонился. И стихи продавать - слава же богу - не захотел. Выше он всего этого (теперь!), да? А в дневнике очень подробно про то, как Шлуглейт (по словам которого Блок теперь уже даже и не Шекспир - целый Пушкин), не остановился и перед 2-3 миллионами! Больше того: сразу дает 500 тысяч, только чтобы поэт приостановил переговоры с Незлобиным.
Мы нарочно сыплем фамилиями и суммами - от мира сего, еще как от мира! «Бриаловский мгновенно приехал. и на слова Нолле-Коган, что меня устроят 5 миллионов, сказал, минуту подумав, что он готов на это, а на следующий день привез мне 1 миллион и договор, который мы и подписали». Там же, в дневнике - про бессовестных московских извозчиков, дерущих «10-15-20 тысяч». В пересчете на извозчичьи тарифы получается, что не из-за таких уж и грандиозных сумм сыр бор шумел.
Конец.
Первое, что он сделал по возвращении домой - написал письмо Александре Андреевне, вот уже неделю как отбывавшей ссылку в Луге - первое из последних своих четырех писем матери.
«Дело вовсе не в этой подагре, а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цинготные опухоли и расширение вен. Никаких органических повреждений нет, а все состояние, и слабость, и испарина, и плохой сон, и прочее - от истощения. Я буду здесь стараться вылечиться». И дальше про то, как ему не хватает мамы и как его угнетает Любина служба...
Но здесь поэт капризничает, кивая на прошлое.
Практически с его возвращения из Москвы Любовь Дмитриевна не репетирует и не играет. То есть, она продолжает числиться в труппе, исправно получает жалование, но внезапное ухудшение здоровья Блока превращает ее в самую настоящую сиделку. Пытаясь как-то развеять мужнину мрачность, Люба выбирает погожий вечер, едва ли не хитростью выманивает его на улицу и ведет одним из их любимых маршрутов. Как он любил эти прогулки прежде! Теперь же - ни улыбки за всю дорогу. И в тот же вечер - жар.