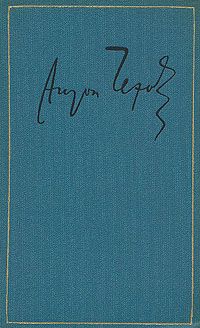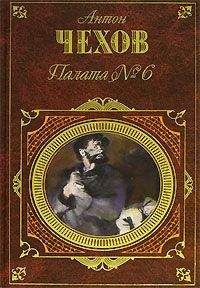Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1888-1891
Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, всё обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей – это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.
В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, чго их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и вместо того, чтоб вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль…» и так далее, всё в таком роде.
Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».
Оказалось, что и ее он принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.
Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и всё мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!
Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела – мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души – изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей… Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.
Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто всё уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.
В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.
– Прощайте, – говорит Катя. – Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.
Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:
– А вы всё худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.
– Не нужно, Катя.
– Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.
Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.
Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:
– У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно…
– Мама! – говорит ей укоризненно Лиза. – Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.
– Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.
Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутораста молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастие, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина.
Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.
Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше 30 лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.