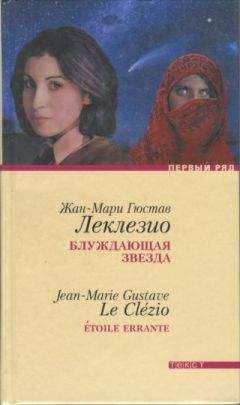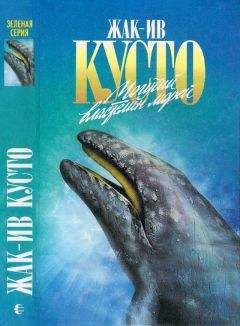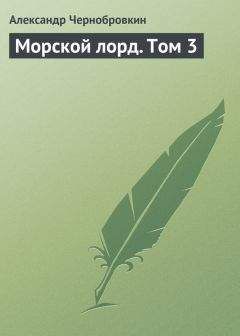Жан- Мари Гюстав Леклезио - Золотоискатель
И было другое утро, дождливое, на кладбище рядом с Бигара, когда я слушал, как падают на гроб комья земли, и смотрел на бледное лицо Лоры, на ее волосы, повязанные черной шалью Мам, на капли воды, текущие по ее щекам, словно слезы.
Сколько времени прошло с тех пор, как с нами нет Мам? Я не могу в это поверить. Всё кончено, никогда больше не будет ее голоса, звучащего в полутьме веранды, ни запаха, ни взгляда. После смерти отца я словно погрузился в какое-то забытье, навсегда оторвавшее меня от моей силы, моей молодости, забытье, с которым я не желаю мириться. Никаких кладов, никаких сокровищ не бывает. Это «золото дураков», которое показывали мне чернокожие золотоискатели, когда я только-только приехал в Порт-Матюрен.
Мы остались с Лорой одни в пустом и холодном бараке, за закрытыми ставнями. Ночник в комнате Мам погас, и я зажег новый на столике у изголовья, среди ненужных склянок, рядом с кроватью, покрытой мертвенно-белыми простынями.
— Если бы я не уехал тогда, ничего этого не случилось бы… Я виноват, я не должен был ее оставлять.
— Но тебе ведь надо было уехать? — Этот вопрос Лора задает сама себе.
Я с тревогой смотрю на нее:
— Что ты теперь будешь делать?
— Не знаю. Думаю, останусь здесь.
— Поедем со мной!
— Куда?
— В Мананаву. Будем жить между небом и землей.
Она насмешливо смотрит на меня:
— Втроем? С твоей колдуньей? — Так она называет Уму. Ее взгляд становится холодным. На лице — усталость, отчуждение. — Ты прекрасно знаешь, что это невозможно.
— Но почему?
Она не отвечает. Смотрит сквозь меня. И я вдруг понимаю, что за эти годы добровольного изгнания потерял ее. Все это время она шла другой дорогой, она и сама стала другой, наши жизни больше нельзя совместить. Ее жизнь — среди монашек Сретенского приюта, там, где бродят все эти бездомные нищенки. Ее жизнь — среди больных раком, раздутых от водянки индианок, вымаливающих несколько рупий, улыбку, слово утешения. Среди хилых, рахитичных детей, которым она варит рис и для которых выпрашивает деньги у «буржуев» своей касты.
На какой-то миг в ее голосе снова звучит участие, как прежде, когда я босиком крался по комнате, перед тем как уйти в ночь.
— А ты что собираешься делать?
— Буду мыть золото, как на Клондайке, — бахвалюсь я. — Уверен, что в Мананаве оно есть.
Да, еще какой-то миг ее глаза весело блестят, мы еще близки, мы по-прежнему те самые «голубки», как называли нас когда-то взрослые, когда видели вместе.
А потом я смотрю, как она складывает чемоданчик, чтобы уйти жить к монахиням, в Лоретт. Ее лицо снова спокойно, безучастно. Только в глазах сверкает нечто похожее на гнев. Она повязывает свои прекрасные черные волосы платком Мам и уходит не оборачиваясь, с маленьким картонным чемоданом и большим зонтом в руках, высокая и прямая, и отныне ничто не может ни удержать ее, ни заставить свернуть с дороги.
Весь день я провожу возле устья двух рек, напротив бухты Барашуа, глядя, как отступает, обнажая черный песок, море. Во время отлива сюда приходят чернокожие подростки; передвигаясь на журавлиных ногах по воде цвета меди, они ловят осьминогов. Самые храбрые подходят ближе посмотреть на меня. Один из них, сбитый с толку моей армейской рубашкой, решает, что я военный, англичанин, и обращается ко мне на английском языке. Чтобы не разочаровывать его, я отвечаю тоже по-английски, и мы болтаем какое-то время, он — стоя, опершись о свою острогу, я — сидя на песке в тени турнефорций с сигаретой в зубах.
Затем он бежит к своим товарищам, и их голоса и смех затихают на другом берегу реки Тамарен. На море не остается никого, кроме рыбаков в пирогах, медленно скользящих по своему отражению на зеркальной глади воды.
Я жду, когда на песок набежит первая волна прилива. Как прежде, я вздрагиваю от пришедших вместе с ней ветра и шума моря. Тогда, повесив на плечо свой солдатский вещмешок, я иду вверх по реке к Букану. Не доходя до Йемена, сворачиваю в чащу, туда, где начиналась наша дорожка — широкая аллея красной глины, что вела меж деревьев прямо к белому дому под лазурной крышей. Я помню, как по этой аллее мы уходили, когда судебные приставы и люди дяди Людовика прогнали нас из нашего дома. Теперь дорожка исчезла, трава поглотила ее, а вместе с ней — и тот мир, в который она вела.
Как прекрасен этот серебристый свет! Он похож на тот, что окутывал меня, когда, сидя на веранде, я смотрел, как на сад надвигается вечер. Только его я и узнаю. Пробираясь через заросли, я не пытаюсь увидеть ни дерево чалта, ни наш овраг. Подобно морским птицам, мне тревожно от предчувствия скорого окончания дня. Теперь я быстро шагаю на юг, ориентируясь на Красноземельную гору. Впереди сверкает, отражая небо, водная поверхность: это водоем в Эгретт, где отец установил свой генератор. Сейчас водоем совсем заброшен, зарос травой и камышами. От отцовской затеи не осталось и следа. Запруды, металлические конструкции, на которых держалась динамо-машина, давно были убраны отсюда, а сама машина продана в счет долгов. Вода и тина стерли мечту моего отца с лица земли. Когда я огибаю водоем, чтобы выйти на дорогу к ущельям, из-под ног у меня с криком разлетаются птицы.
Перевалив через Бриз-Фер, я вижу под собой долину Черной реки, вдали, между деревьев, искрится под солнцем море. И вот я стою перед входом в Мананаву — весь в поту, запыхавшийся, взволнованный. Сейчас я войду в ущелье, и мне становится страшно. Неужели теперь здесь я должен жить — как жертва кораблекрушения? В неистовом свете заходящего солнца, рядом с окутанными тенью горами Макабе и Пьедмармит, ущелье выглядит еще сумрачнее. Непреодолимой стеной встают над Мананавой красные утесы. К югу, в стороне моря, виднеются дымы сахароварен и деревень Каз-Нуаяля и Ривьер-Нуара. Мананава — край света, отсюда можно смотреть на мир, оставаясь невидимым.
Я в самом сердце долины, здесь, в тени больших деревьев, уже темно. Дует с моря ветер, и я слышу, как при его незримом появлении шумят, пляшут листья. Никогда не заходил я так далеко в сердце Мананавы. Я иду дальше во мраке под еще светлым небом, и бескрайний лес расступается передо мной. Вокруг высятся гладкие стволы эбенов, теревинфы, дикие смоковницы, канифольные деревья, сикоморы. Ноги утопают в ковре из листьев, от земли поднимается терпкий влажный запах. Я иду вверх по руслу горного ручья, срывая на ходу сон-траву, красные гуайявы, китайские бобы. Мною овладевает пьянящее чувство свободы. Не сюда ли мне надо было стремиться все это время? Не на это ли место — эту позабытую людьми долину, повторяющую очертаниями форму созвездия Корабль Арго, — указывали карты Корсара? Я иду между деревьев и, как когда-то в Английской лощине, слышу, как бешено колотится мое сердце. Я чувствую, я знаю: я не один здесь, в Мананаве. Где-то рядом в лесу кто-то еще идет по тропинке, и скоро наши пути пересекутся. Этот кто-то бесшумно скользит между листьев, я чувствую на себе его всепроникающий светлый взгляд. Вскоре я оказываюсь перед утесом, еще залитым лучами солнца. Я стою над лесом, у истока рек, подо мной до самого моря колышется листва. Солнце на ослепительном небе уже закатывается за горизонт. Я буду спать здесь, лицом на запад, среди нагретых солнечным светом вулканических камней. Здесь будет мой дом, откуда я всегда буду видеть море.
И тогда я вижу, как из леса ко мне выходит Ума. И в тот же самый миг появляются две белые птицы. Они парят на ветру высоко в бесцветном небе, кружа над Мананавой. Интересно, видели ли они меня? Беззвучно, почти не шевеля крыльями, летят они бок о бок, похожие на две белые кометы, и смотрят на солнечный ореол на горизонте. Мир остановился, светила прекратили свое движение. Лишь они продолжают двигаться в потоках ветра…
Ума рядом со мной. Я чувствую запах, тепло ее тела. «Смотри, это они! — тихо говорю я. — Это их я видел тогда!..» Ветер относит птиц к горе Макабе, а небо тем временем меняет цвет, становится серым. И вдруг, спикировав к Черной реке, они исчезают за горами: наступает ночь.
Мы мечтали о днях счастья в Мананаве, без людей. Мы жили дикой жизнью среди деревьев, ягод, трав, родниковой воды, бьющей из красного утеса. Мы ловим раков в притоке Черной реки, а в ее устье — креветок и крабов, живущих под плоскими камнями. Я вспоминаю истории, которые рассказывал нам старый кэптен Кук, — про обезьяну Зако, которая ловила креветок на свой собственный хвост.
Здесь все просто. На заре мы идем в лес, еще дрожащий каплями росы, чтобы набрать там красных гуайяв, черешен, мальгашских слив, «кремовых яблок», нарвать сон-травы, дикого чайота или горькой тыквы. Мы живем в тех самых местах, где скрывались беглые рабы во времена великого Сакалаву, во времена Сенгора. «Смотри! Видишь? Это были их поля. Они пасли там свиней, коз, держали кур. Выращивали бобы, чечевицу, ямс, маис». Ума показывает мне разрушенные изгороди — поросшие бурьяном груды камней. Около вулканического утеса колючий кустарник скрывает вход в пещеру. Ума приносит мне пахучие цветы. Она вплетает их в свои тяжелые волосы, закладывает за уши: «Кассия».