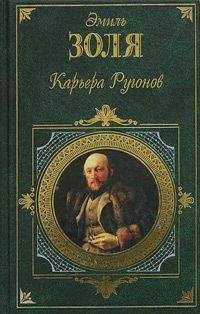Эмиль Золя - Его превосходительство Эжен Ругон
Только после семи часов явился сияющий ефрейтор. Он наконец разыскал карету трактирщика, спрятанную в глубине сарая где-то за городом. Карета была даже заложена, и как раз по фырканью лошади ее обнаружили. Но когда экипаж подъехал к дому, оказалось, что нотариуса надо одеть. Это отняло довольно много времени. Госпожа Мартино с суровой медлительностью надела на него белые чулки, белую рубашку. Затем одела его во все черное: панталоны, жилет, сюртук. Она ни за что не соглашалась принять помощь от кого-нибудь из жандармов. Нотариус покорно слушался ее рук. Зажгли лампу. Жилькен в нетерпении потирал руки; жандарм стоял неподвижно, и его треуголка отбрасывала на потолок огромную тень.
— Это все? все? — спрашивал Жилькен.
Госпожа Мартино целых пять минут копалась в шкафу. Вытащив оттуда пару черных перчаток, она сунула их мужу в карман.
— Надеюсь, сударь, — попросила она, — вы разрешите мне сесть в карету. Я хочу сопровождать моего мужа.
— Нельзя, — грубо ответил Жилькен.
Она больше не настаивала.
— По крайней мере, — заявила она, — вы мне позволите следовать за ним?
— Дорога свободна для всех, — сказал он. — Но вы не найдете экипажа, их нет в городе.
Она чуть пожала плечами и вышла, чтобы отдать приказание. Через десять минут у дверей, позади кареты, стояла одноколка. Теперь надо было снести Мартино вниз. Его взяли на руки двое жандармов, жена поддерживала ему голову. При малейшем стоне умирающего она повелительным голосом приказывала солдатам остановиться, что те и делали, несмотря на грозные взгляды комиссара. Таким образом отдыхали почти на каждой ступеньке. Нотариуса несли, как мертвеца, одетого вполне надлежащим образом. Так его бесчувственного и усадили в карету.
— Половина девятого! — воскликнул Жилькен, взглянув в последний раз на часы. — Что за проклятая работа! Когда я только доеду? Мне не поспеть к началу.
Да так оно и было. Хорошо, если удастся приехать в середине бала. Он ругнулся, вскочил в седло и велел кучеру гнать. Впереди ехала карета, по сторонам ее скакали два жандарма, за ними в нескольких шагах полицейский комиссар и ефрейтор Одноколка госпожи Мартино следовала позади. Ночь выдалась свежая. Их отряд летел по бесконечной серой дороге мимо заснувших полей; слышался глухой стук колес да размеренный топот лошадей. Во время переезда никто не произнес ни слова. Жилькен придумывал, что сказать жене директора лицея при встрече. По временам госпоже Мартино казалось, что она слышит предсмертный хрип мужа, и тогда она во весь рост поднималась в своей одноколке. Но ей едва удавалось разглядеть катившуюся впереди черную безмолвную карету.
В Ньор прибыли в половине одиннадцатого. Чтобы не проезжать через город, комиссар велел двигаться вдоль крепостного вала. У тюрьмы пришлось трезвонить изо всех сил. Когда привратник увидел, что ему привезли бледного, похожего на труп арестанта, он пошел доложить начальнику. Тому нездоровилось, но он все же явился, шаркая туфлями. Крайне рассерженный, он наотрез отказался принять человека в таком состоянии. Они, очевидно, считают, что тюрьма и госпиталь — одно и то же?
— Однако, если он арестован, что с ним, по-вашему, делать? — кричал Жилькен, выведенный из себя этим обстоятельством.
— Все, что хотите, господин комиссар, — ответил начальник. — Повторяю вам, он сюда не поступит. Я ни за что не возьму на себя такой ответственности.
Госпожа Мартино воспользовалась спором и пересела в карету к мужу. Она предложила отвезти его в гостиницу.
— Да, да, в гостиницу, к черту, куда хотите! — орал Жилькен. — С меня довольно, черт вас возьми! Забирайте его!
Все-таки он счел долгом препроводить нотариуса в «Парижскую гостиницу», названную госпожой Мартино. Площадь Префектуры начинала пустеть, буржуазные парочки медленно пропадали во тьме ближайших улиц, и только мальчишки еще прыгали по тротуарам. Но из шести сверкающих окон большого зала по-прежнему струился яркий свет; на площади было светло, как днем. Еще громче звучали медные голоса оркестра. Между занавесями мелькали обнаженные плечи дам, плыли прически, завитые по парижской моде. Когда нотариуса вносили в одну из комнат второго этажа, Жилькен, взглянув вверх, увидел мадам Коррер и девицу Эрмини Билькок, которые так и не отходили от окна. Они стояли, вытянув вперед шеи, возбужденные видом праздника. Однако госпожа Коррер, вероятно, заметила, когда привезли ее брата, потому что вдруг совсем перегнулась вниз, рискуя упасть. Она стала делать Жилькену отчаянные знаки, и он поднялся к ней.
А позже, к полуночи, бал у префекта достиг полного блеска. Открыли двери в столовую, куда был подан холодный ужин. Раскрасневшиеся дамы ели, не садясь, обмахивались веерами и смеялись. Некоторые из них продолжали танцевать, не желая пропустить ни одной кадрили, и ограничивались стаканом сиропа, который им приносили мужчины. В воздухе носилась сверкающая пыль, летевшая, казалось, от волос, от юбок и от обнаженных рук в золотых браслетах. Зал был переполнен золотом, музыкой, жарою. Ругон задыхался и, когда Дюпуаза потихоньку вызвал его, поспешно вышел.
Рядом с большим залом, в комнате, где он видел их накануне, его поджидали госпожа Коррер и девица Эрмини Билькок; обе плакали навзрыд.
— Мой брат, мой бедный Мартино! — всхлипывала госпожа Коррер, рыдая в носовой платок. — Ах, я чувствовала, что вы его не спасете… Боже мой! Зачем вы его не спасли?
Он хотел было ответить, но она не позволяла ему вставить слова.
— Его арестовали сегодня. Я только что видела его… Боже мой! Боже мой!
— Не отчаивайтесь, — сказал он наконец. — Дело разберут. Его выпустят, я надеюсь.
Госпожа Коррер перестала утирать слезы. Посмотрев на него, она воскликнула вполне естественным голосом:
— Но ведь он уже умер!
Затем снова впала в свой безутешный тон и уткнулась лицом в платок.
— Боже мой! Боже мой! Бедный Мартино!
Умер! Ругон ощутил дрожь, пробежавшую по телу. Он не мог вымолвить ни слова. В первый раз он почувствовал перед собой провал, темный провал, куда тебя незаметно подталкивают. И вот этот человек умер! Ругон вовсе не хотел этого. Дело, видно, зашло далеко.
— Увы, это так; наш бедняжка умер, — с тяжким вздохом рассказывала девица Эрмини Билькок. — В тюрьме его, кажется, отказались принять. Увидев, в каком плачевном состоянии его доставили в гостиницу, госпожа Коррер сошла вниз, вломилась в дверь и закричала, что она его сестра. Сестра ведь имеет право принять последний вздох своего брата. Я так и сказала этой подлой госпоже Мартино. Она все грозилась, что выставит нас, но ей все-таки пришлось пропустить нас к постели… Боже, боже! Все это кончилось очень быстро. Он хрипел не более часа. И лежал на кровати, одетый во все черное, как нотариус, собравшийся на свадьбу. Он угас, как свечка, только поморщился немножко. Ему, наверное, было не очень больно.
— Вы думаете, что госпожа Мартино не затеяла потом со мной ссоры? — в свою очередь разглагольствовала госпожа Коррер. — Не знаю, что она там такое путала; упомянула про наследство и обвинила меня в том, будто я нанесла брату последний удар. Я ей на это ответила: «Ну, сударыня, я бы ни за что не позволила увезти его, пусть бы лучше жандармы изрубили меня в куски!» И они меня, наверное, изрубили бы, смею вас уверить… Правда, Эрмини?
— Да, да, — ответила рослая девица.
— Но что поделаешь, слезами его не воскресить; плачешь, потому что хочется плакать… Бедный мой Мартино!
Ругону стало неприятно. Он отдернул руки, которыми завладела было госпожа Коррер. Он не знал, что сказать; ужасные подробности смерти вызвали в нем отвращение.
— Посмотрите! — воскликнула Эрмини, стоявшая у окна. — Отсюда видно комнату; вон там, напротив, где освещено; третье окно второго этажа, если считать слева… Там, где за занавесками лампа.
Ругон их выпроводил. Госпожа Коррер извинялась, называла его своим другом, объясняла, что она, уступив первому порыву, бросилась к нему сообщить роковую новость.
— Неприятная история, — сказал он на ухо Дюпуаза, когда, все еще бледный, он вернулся в большой зал.
— Эх! А все дурак Жилькен! — ответил префект, пожимая плечами.
Бал был в разгаре. Через широко открытую дверь видно было, как в углу столовой помощник мэра пичкал сладостями трех дочерей лесничего, а полковник 78-го армейского полка пил пунш, прислушиваясь к злобным выходкам главного инженера путей сообщения, который грыз засахаренный миндаль. У дверей Кан громко твердил председателю Гражданского суда свою утреннюю речь о благодеяниях новой железной дороги; вокруг стояла плотная толпа важных мужчин, состоявшая из начальника прямых налогов, двух мировых судей, представителей Отдела сельского хозяйства и членов Статистического общества; они слушали, блаженно разинув рты. А дальше в большом зале, в сиянии пяти люстр, гремели трубы оркестра, баюкая звуками вальса кружащиеся пары: сын главного сборщика танцовал с сестрой мэра, один из заместителей прокурора — с барышней в голубом, другой заместитель — с барышней в розовом. Но особое восхищение вызывала одна пара: то были полицейский комиссар и жена директора лицея — нежно обнявшись, они медленно кружились в вальсе. Жилькен успел уже приодеться: черный фрак, лаковые ботинки, белые перчатки. Хорошенькая блондинка простила ему опоздание и, глядя на него нежными глазами, млела у него на плече. Жилькен раскачивал бедрами и откидывал торс назад с отчаянными ухватками заправского танцора публичных балов, восхищающего галерку своим изяществом. Эта пара чуть не сбила Ругона с ног, ему пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить их, когда они пронеслись мимо в волнах белой кисеи, усеянной золотыми звездами.