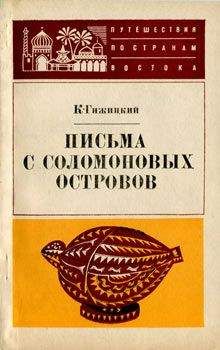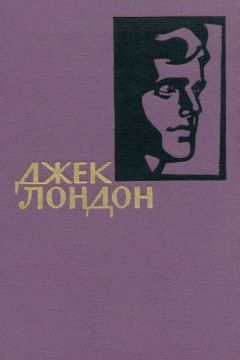Робер Мерль - Смерть — мое ремесло
Маленький брюнет усмехнулся и сказал по-немецки:
— Не спешите так, сударь.
В руке у него был револьвер. Я взглянул на него, затем на блондина и увидел по наплечным знакам, что оба они — офицеры.
Я стал навытяжку и спросил:
— Что вам угодно?
Блондин в очках принял небрежную позу, вытащил из кармана какую-то фотографию, посмотрел на нее и передал брюнету. Маленький тоже бросил взгляд на фотографию, переглянулся с блондином и произнес по-английски: «Да». Поджав губы, он помахал револьвером в вытянутой руке и спросил:
— Рудольф Ланг?
Все было кончено. Я кивнул и почувствовал удивительное облегчение.
— Вы арестованы, — сказал маленький брюнет.
Наступило молчание. Потом я спросил:
— Могу я сходить за своими вещами?
Маленький брюнет усмехнулся. Он походил на итальянца.
— Идите впереди.
На пороге кухни один из американцев внезапно подтолкнул меня, я покачнулся, чуть не упал и, пробежав несколько шагов, ухватился за стол. Подняв голову, я увидел, что офицер в очках стоит позади Георга с направленным на него револьвером. Я почувствовал приставленное к моей спине дуло пистолета и понял, что маленький брюнет стоит за мной.
— Георг Пютцлер? — спросил офицер в очках.
— Да, — ответил Георг.
— Положите обе руки на стол, сударь.
Георг вытянул руки по обеим сторонам своей тарелки.
— И вы тоже, мадам!
Жена Георга взглянула на меня, затем на Георга и медленно повиновалась.
— Пройдите вперед, — сказал мне брюнет.
Я поднялся по лестнице и вошел в свою комнату. Маленький брюнет прислонился к окну и стал насвистывать. Я надел эсэсовский мундир.
Переодевшись, я взял чемодан, положил его на кровать и подошел к шкафу за бельем. Как только я открыл шкаф, американец перестал насвистывать. Я выложил белье на кровать и стал укладывать его в чемодан. В этот момент я вспомнил о револьвере. Он лежал под подушкой в каком-нибудь метре от меня, со спущенным предохранителем. Я постоял секунду неподвижно — и внезапно на меня напала какая-то апатия.
— Готовы? — спросил за моей спиной маленький брюнет.
Я захлопнул крышку чемодана и двумя руками защелкнул замки. Лязг замков как-то странно прозвучал в тишине комнаты.
Мы спустились вниз, и я вошел в кухню. Жена Георга окинула взглядом мой мундир, руками прикрыла рот и посмотрела на мужа. Георг не шевельнулся.
— Пошли! — сказал маленький брюнет и слегка подтолкнул меня.
Я пересек кухню, обернулся к Георгу и его жене и сказал:
— До свиданья.
Не поворачивая головы, Георг глухим голосом ответил:
— До свиданья.
Маленький брюнет улыбнулся во весь рот и насмешливо произнес:
— Меня бы это удивило.
Жена Георга не ответила.
Американцы увезли меня в Бредштадт. Мы остановились перед бывшим зданием госпиталя и прошли через двор, заполненный солдатами. Они курили, прогуливаясь небольшими группами. Ни один не отдал честь конвоировавшим меня офицерам.
Мы поднялись на второй этаж, и меня ввели в маленькую комнату. Там находилась койка, два стула, стол и посередине печь и ведро с углем. Маленький брюнет велел мне сесть на стул.
Немного погодя вошел солдат. Он был ростом около двух метров, широкоплечий. Солдат развязно приветствовал обоих офицеров. Те называли его просто Джо. Поговорив с ним по-английски, они направились к двери. Я поднялся и стал навытяжку, но они вышли, не взглянув на меня.
Солдат сделал мне знак сесть и сам уселся на койку. Он опустился медленно, тяжело. Койка заскрипела, он раздвинул ноги и прислонился к стене. Не спуская с меня глаз, он вытащил из кармана какую-то маленькую плиточку, развернул ее, засунул в рот и принялся жевать.
Прошло довольно много времени. Солдат не сводил с меня глаз, и я начинал чувствовать себя неловко под его пристальным взглядом. Я повернул голову и стал смотреть в окно. Стекла в нем были матовые, и я не мог ничего видеть. Я посмотрел на печку. В комнате была и батарея, но, по-видимому, центральное отопление не действовало. Печка топилась, и было очень тепло.
Прошел еще час. Вихрем ворвался маленький подвижный офицер, уселся за стол и начал меня допрашивать. Я рассказал все, что знал.
После этого меня таскали из тюрьмы в тюрьму. В тюрьме мне было не так-то уж плохо. Я хорошо питался, и у меня совершенно прекратились припадки. И все же время тянулось очень медленно. Я мечтал, чтобы скорее все кончилось. Вначале меня очень тревожила судьба Эльзи и детей. С чувством огромного облегчения я узнал, что американцы не посадили их в концлагерь, как я того ожидал. Я получил несколько писем от Эльзи и сам мог ей писать. Иногда я размышлял о своей жизни. Удивительное дело — только мое детство казалось мне реальным. Правда, обо всех последующих годах у меня сохранились очень детальные воспоминания, но они походили скорее на воспоминания от произведшего глубокое впечатление фильма. Я как бы наблюдал самого себя в этом фильме, видел, как я говорю и действую, но мне казалось, что все это происходит не со мной.
Мне пришлось в качестве свидетеля обвинения повторить все свои показания на Нюрнбергском процессе. И здесь, на скамье подсудимых, я впервые увидел некоторых высоких партийных сановников, которых знал лишь по фотографиям в газетах.
В Нюрнберге мою камеру посетило несколько человек, и в частности один американский подполковник. Он был высокий, розовощекий, с фарфоровыми глазами и белыми как лунь волосами. Он хотел знать, что я думаю о статье, появившейся обо мне в американской прессе. Он перевел ее мне. В ней говорилось, что я «родился одновременно с рождением века и, по существу, как бы символизирую полвека немецкой истории, полвека насилия, жестокости и фанатизма...»
— И нужды, господин полковник.
Он с живостью сказал:
— Не называйте меня господином полковником.
Молча окинув меня взглядом, он стал задавать мне вопросы, делая ударение на «вы».
— А сами вы испытывали нужду?
Я посмотрел на него. Он был розовый, чистенький, как холеный младенец. Ясно, он не имел никакого представления о мире, в котором я прожил.
— Да, и немалую.
Он произнес внушительно:
— Это не извинение.
— Я не нуждаюсь в извинениях. Я повиновался.
Он покачал головой и спросил с серьезным и огорченным видом:
— Как вы объясняете, что могли докатиться до такого?
Я подумал и ответил:
— Выбор пал на меня из-за моих организаторских способностей.
Он внимательно посмотрел на меня — у него были голубые глаза куклы, — покачал головой и сказал:
— Вы не поняли мой вопрос. Вы и до сих пор убеждены, что необходимо было уничтожать евреев? — спросил он после короткой паузы.
— Нет, теперь я в этом не убежден.
— Почему?
— Потому что Гиммлер покончил с собой.
Он удивленно взглянул на меня, и я продолжал:
— Это говорит о том, что он не был настоящим начальником. А если он не был настоящим начальником, то он мог мне лгать, представляя уничтожение евреев как необходимость.
— Следовательно, если бы пришлось начать все с начала, вы бы не сделали этого?
— Сделал бы, если бы получил такой приказ, — ответил я.
Он секунду смотрел на меня, его розовое лицо побагровело, и он с возмущением воскликнул:
— Вы бы действовали вопреки вашей совести?!
Я стал навытяжку и, глядя прямо перед собой, сказал:
— Простите, мне кажется, вам непонятна моя точка зрения. Какое имеет значение, что думаю лично я? Мой долг — повиноваться.
— Но не такому жуткому приказу! — воскликнул американец. — Как вы могли?.. Это чудовищно... Дети, женщины... Неужели вы так бесчувственны?
Я устало ответил:
— Мне без конца задают этот вопрос.
— Ну и что же?.. Что ж вы отвечаете?
— Трудно объяснить. Вначале было очень тяжело, затем постепенно у меня атрофировались всякие чувства. Я считал, что это необходимость. Иначе бы я не мог продолжать, понимаете? Я всегда думал о евреях термином «единицы». И никогда не думал о них как о людях. Я сосредоточивался на технической стороне задачи. Ну, скажем, как летчик, который бомбит какой-нибудь город, — добавил я.
Американец со злостью возразил:
— Летчик никогда не уничтожал целый народ!
Я задумался над его словами:
— Будь это возможно и получи он такой приказ, летчик сделал бы это.
Он пожал плечами, как бы отстраняя от себя подобную мысль.
— И вы не испытываете угрызений совести? — снова заговорил он.
— При чем тут угрызения совести? Возможно, уничтожение евреев и было ошибкой, но не я отдал такой приказ.
Он потряс головой.
— Я не об этом... Но вот теперь, когда вас арестовали, вы, быть может, иногда думали о тысячах несчастных людей, которых вы послали на смерть.
— Да, иногда.
— Ну а когда вы думаете об этом, что вы чувствуете?
— Ничего особенного я не чувствую.
Его голубые глаза с невыносимой настойчивостью остановились на мне. Он снова потряс головой и — в его голосе удивительно сочетались жалость и отвращение — тихо произнес: