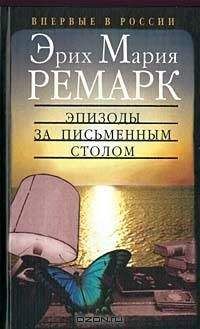Эрих Ремарк - Тени в раю
— А почему бы вам не интересоваться ею, Бетти? Вы достаточно пережили. Теперь можете спокойно обратить свои помыслы на Оливаерплац.
— Знаю. Но…
— Не слушайте никого, кто вас критикует. Эмигрантам здесь не грозит опасность, вот многие из них и впали в своего рода тюремный психоз. Как ни грубо это звучит, но их рассуждения напоминают рассуждения завсегдатаев пивных, так сказать, «пивных политиканов». Все они знают лучше всех. Будьте такой, какая вы есть, Бетти. Нам хватит «генерала» Танненбаума с его кровавым списком. Второго такого не требуется.
Дождь барабанил в окна. В комнате стало тихо. Бетти вдруг захихикала.
— Ох уж этот Танненбаум. Он говорит, что если ему поручат сыграть в кинофильме Гитлера, он сыграет его как жалкого брачного афериста. Гитлер, говорит он, точь-в-точь брачный аферист с этим его псевдонаполеоновским клоком волос и со щеточкой под носом. Специалист по стареющим дамам.
Я кивнул. Хотя давно уже устал от дешевых эмигрантских острот. Нельзя отделываться остротами от того, что вызвало мировую катастрофу!
— Юмор Танненбаума неистощим, — сказал я. — Патентованный остряк.
Я встал.
— До свидания, Бетти. Скоро я вернусь. Надеюсь, к тому времени вы забудете все ужасы, какие рисует ваша богатая фантазия. И опять станете прежней Бетти. Ей-богу, вам надо было сделаться писательницей. Хотелось бы мне обладать хотя бы половиной вашей фантазии.
Бетти восприняла мои слова так, как я и хотел — сочла их комплиментом. Ее большие глаза, в которых застыл вопрос, оживились.
— Неплохая мысль, Росс! Но о чем я могла бы написать? Ведь я ничего особенного не пережила.
— Напишите о своей жизни, Бетти. О своей самоотверженной жизни, которую вы посвятили всем нам.
— Знаете что, Росс? Я действительно могу попробовать.
— Попробуйте.
— Но кто это прочтет? И кто напечатает? Помните, что получилось с Моллером? Он впал в отчаяние, потому что никто в Америке не хотел напечатать ни строчки из его сочинений. Из-за этого он и повесился.
— Не думаю, Бетти. По-моему, это произошло скорее всего из-за того, что он здесь не мог писать, — сказал я поспешно. — Это нечто совсем другое. Моллер не мог писать, его мозг иссяк. В первый год он еще писал, тогда он был преисполнен возмущения и гнева. Но потом наступил штиль. Опасность миновала, слова возмущения начали повторяться, ибо его чувства не обогащались новыми впечатлениями; он стал просто скучным брюзгой, а потом брюзжание перешло в пассивность и пессимизм. Да, он спасся, но этого ему было мало, как и большинству из нас. Он хотел чего-то иного и из-за этого погиб.
Бетти внимательно слушала. Глаза ее стали менее тревожными.
— И Кан тоже? — спросила она.
— Кан? Что тут общего с Каном?
— Не знаю. Просто мне пришло на ум.
— Кан не писатель. Скорее, он противоположность писателю, человек действия.
— Именно поэтому я о нем вспомнила, — сказала Бетти робко, — но, может, я ошибаюсь.
— Уверен, что ошибаетесь, Бетти.
Впрочем, спускаясь по темной лестнице, я не был в этом уверен. В подъезде я встретил Грефенгейма.
— Ну, как она? — спросил он.
— Плохо, — сказал я. — Вы ей даете лекарства?
— Пока нет. Но они ей скоро понадобятся.
Я шел по мокрой от дождя улице. Недалеко от магазина, где работал Кан, я свернул. Сперва я намеревался идти прямо на Пятьдесят седьмую улицу, но потом раздумал: решил заглянуть к Кану.
Кана я застал в магазине.
— Когда вы едете в Голливуд?
— Дня через два.
— Весьма возможно, что вы встретите там Кармен.
— Кармен?
Кан засмеялся.
— Один тамошний жучок предложил ей контракт как дебютантке. На три месяца. По сто долларов в неделю. Но скоро она опять явится сюда. Кармен антиталант.
— А она хотела ехать?
— Нет. Слишком тяжела на подъем. Мне пришлось ее уговаривать.
— Зачем?
— Пусть не думает потом, будто упустила шанс. Не хочу давать ей повод всю жизнь попрекать меня. Ну, а так она сама во всем убедится за три месяца. Правильно?
Я не ответил. Кан явно нервничал.
— Разве я неправильно поступил? — спросил он снова.
— Надеюсь, правильно. Но она очень красивая женщина, я бы не рисковал.
Он снова засмеялся несколько деланным смехом.
— Почему, собственно? В Голливуде таких, как Кармен, тысячи. И многие талантливы. А она даже по-английски не говорит. Но вы все-таки позаботьтесь о ней, когда она туда явится.
— Конечно, Кан. В той степени, в какой вообще можно заботиться о красивой молодой женщине.
— С Кармен возни не много. Большую часть времени она спит.
— Я охотно сделаю все, что смогу. Но ведь я сам не знаю там ни души. Разве что Танненбаума, больше никого.
— Вы можете время от времени водить ее обедать. Уговаривайте ее, когда срок истечет, вернуться в Нью-Йорк.
— Хорошо. Что вы будете делать во время ее отсутствия?
— То же, что всегда.
— Что именно?
— Ничего. Вы же знаете, я продаю приемники. Что я могу делать еще? Энтузиазм, вызванный тем, что ты остался жив, напоминает шампанское. Когда бутылку откупоривают, шампанское быстро выдыхается. Хорошо, что почти никто не размышляет подолгу на эти темы. Желаю вам счастья, Росс! Только не становитесь актером! Вы и так уже актер.
— Когда ты вернешься, в нашем кукушкином гнезде в поднебесье уже будет жить этот педераст-меланхолик, — сказала Наташа, — он возвращается в ближайшие дни. Сегодня утром я узнала это из письма на толстой серой бумаге, от которой несло жокей-клубом.
— Откуда письмо?
— Почему тебя это вдруг заинтересовало?
— Да нет же. Просто я задал идиотский вопрос, чтобы скрыть замешательство.
— Письмо из Мексики. Там тоже закончилась одна большая любовь.
— Что значит: там тоже?
— Этот вопрос также вызван желанием скрыть замешательство?
— Нет. Он вызван чисто абстрактным интересом к развитию человеческих отношений.
Наташа оперлась на руку и посмотрела в зеркало; наши взгляды встретились.
— Почему, собственно, мы проявляем гораздо больший интерес к несчастью своих ближних, нежели к счастью? Значит ли это, что человек — завистливая скотина?
— Это уж точно! Но, кроме того, счастье нагоняет скуку, а несчастье нет.
Наташа засмеялась.
— В этом что-то есть! О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, что ты счастлива. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет. Правда?
— Правда, когда речь идет о небольшом несчастье, — сказал я, поколебавшись секунду, — а не о подлинном.
Наташа все еще не сводила с меня взгляда. Косая полоса света из соседней комнаты падала ей на глаза, и они казались удивительно светлыми и прозрачными.
— Ты очень несчастен, Роберт? — спросила она, не отрывая взгляда от моего лица.
— Нет, — сказал я, помолчав немного.
— Хорошо, что ты не сказал: я счастлив. Обычно ложь меня не смущает. Да я и сама умею лгать. Но иногда ложь невыносима.
— Но я хочу стать счастливым, — сказал я.
— Тебе это, однако, не удается. Ты не можешь быть счастливым, как все люди.
Мы все еще смотрели друг на друга. И мне казалось, что отвечать, видя Наташу в зеркале, легче, чем глядя ей в глаза.
— На днях ты меня уже спрашивала об этом.
— Тогда ты солгал. Боялся, что я устрою сцену, и хотел ее избежать. Но я не собиралась устраивать сцену.
— Я и тогда не лгал, — возразил я почти машинально и тут же пожалел о своих словах.
За годы скитаний я усвоил некоторые правила, которые были мне необходимы, чтобы выжить, но не очень-то годились для личной жизни; одно из этих правил гласило: никогда не признавайся в том, что ты солгал. В борьбе с властями оно себя оправдывало, но во взаимоотношениях с любимой женщиной было не всегда приемлемым, хотя и здесь приносило скорее пользу, чем вред.
— Я не лгал, — повторил я, — просто я неудачно выразился. Некоторые понятия мы почерпнули из прошлого века, века романтики, но теперь их следует сильно изменить. К ним относится и понятие счастья. Как легко было стать счастливым! Причем под счастьем подразумевалось абсолютное счастье! Я не говорю сейчас ни о писателях, ни о фальшивомонетчиках — этим удавалось дурачить целые эпохи своей хитроумной ложью; даже великие люди попадали под гипноз яркого шарика с сусальной позолотой, именовавшегося «счастьем»: они считали его панацеей от всего! Человек полюбивший был счастлив, а раз он был счастлив, то уж абсолютно счастлив!
Наташа отвела от меня взгляд и опять растянулась на кровати.
— Да, профессор, — пробормотала она. — Это, конечно, очень умно, но не думаешь ли ты, что раньше было проще?
— Да, наверное.
— Все дело в том, как человек воспринимает жизнь! Что значит — правда? Чувства не имеют отношения к правде.