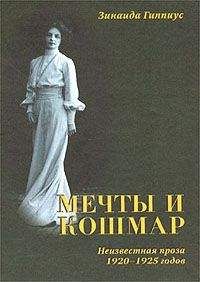Зинаида Гиппиус - Чего не было и что было
Говорила уже совсем своим голосом, без томности этой лунной.
Я не знал, что думать. И на другой день поехал как-то тупо. Жара была томящая. Я дурно провел ночь, мгновеньями меня схватывало острое, знакомое волнение и гасло. Магдалина Кирилловна, когда я на нее посмотрел (долго не смотрел), тоже показалась мне взволнованной, или вообще странной.
— Пойдемте не далеко, — сказала она. — Вот туда, знаете, мимо порубки, дорожка есть в лес, по ручью.
Мимо порубки ехать было очень жарко. Но дорога шла ровная, и мы взяли крупной рысью. У Магдалины Кирилловны ее капризная гнедая Ласка — резва, резвее моего Рыжего. Когда мы свернули в лес и пошли шагом — так и охватило нас еловым, словно яблочным, духом, теплым и влажным. Справа лепетал ручеек, обведенный кустами. Место очень глухое, лес тянулся на версты. Еловый мы скоро проехали, пошел смешанный, и все густел, дорожка теснела.
Знаете, Ваня, — сказала вдруг Магдалина Кирилловна слабо. — Тут так хорошо… Но я, кажется, понадеялась на свои силы…
Можно отдохнуть. Вот, за поворотом, сейчас, будет маленькая полянка… Под горкой… Хотите?
Я снял ее с лошади и осторожно усадил на мох, на мягкие палые листья. Она прислонилась к толстому стволу дерева и закрыла глаза. Я привязал лошадей и опустился рядом с ней.
— Вам нехорошо? — растерянно пролепетал я, обнимая ее плечи. — Уж не обморок ли с ней?
Но она вдруг вся подалась ко мне, нашла губами мои губы… и мне действительно показалось, что я куда-то проваливаюсь: погибаю; уже погиб. Сколько секунд длился этот поцелуй? Острота их была так безмерна, что она же себя и переломила. Возвратясь из одного безумия, я погрузился в другое, — по-новому, внезапно, обезумел. С потрясающей противностью ощутил я полную грудь на моей груди, ощутил запах горячего пота сквозь запах духов, всю ее взбудораженную тяжесть на мне; полуощутил-полуувидел дремные от похоти глаза, кошачье короткое лицо с бессмысленной улыбкой-гримасой на губах, которые тянулись к моим для нового поцелуя. Я перестал отвечать за себя, да и не мог: я сделался голой физиономией… как, впрочем, и она.
Но все-таки человек, все-таки мальчишка, я и повел себя, как идиотический мальчишка.
— Оставьте меня! — крикнул я срывающимся голосом, от-цепливая от шеи ее руки и вскочив. — Как вам не стыдно! Вы старая, развратная женщина. Вы бы посмотрели на себя! Вы мне никогда, ни минуты не нравились! Никогда! Я не из добродетели говорю, мне наплевать, но вы мне противны! Противны!
Я мог бы прибавить все, что угодно, — хоть «маме скажу»! Мог бы зареветь в голос, как пятилетний, — все было возможно. Топал, кажется, и ногами.
Она встала, бледная, со сжатыми губами прошла мимо меня, к лошадям. Кажется, проходя, сделала движение хлыстом, точно ударить хотела… но не ударила (жалел я потом, следовало бы).
Отвязала свою лошадь, вскочила на нее, довольно легко, только вуаль разорвала, зацепила за сучок, и сразу взяла рысью по узкой дорожке. А я все стоял на месте и смотрел, не понимая.
Не скоро пришло понимание.
Таки заревел и долго сморкался, сидя на пригорке. Потом сошел к ручью, умылся, всю голову водой облил. А потом увидел, что и моей лошади нет. Конечно, отвязывая свою, Магдалина Кирилловна отвязала и Рыжего нечаянно, и он ушел за ней, домой.
Что там подумают, дома? Что скажет она? Что, вообще, будет, когда я доберусь домой?
Но мне это длинное путешествие пешком, по вечереющему лесу, было очень полезно. Вот когда я окончательно пришел в себя и понял весь мой стыд.
Ну, не то, что понял, — где же мне? А предчувственно, восчувствовал многое. Я мог поддаться соблазну Магдалины Кирилловны; мог не поддаться; противность ее ощутить мог; но вести себя, как я вел, сказать ей все, что сказал, — я не мог. Мужчина не может. Он оскорбляет тогда не женщину, а «женское» вообще. И теряет свою «мужскую» честь.
Стыд потери этой мужской чести меня и глодал, прямо ел, пока я пробирался домой целинами, спотыкаясь о пни, застревая в кучах валежника.
На дворе, у крыльца, уже в полных сумерках, я натолкнулся на горничную Домняшку.
— Ах, барин, — затараторила она, лукаво блестя глазами (явно что-то чуяла), — вот мы напугались, лошадь-то ваша на усадьбу одна прибежала, управляющий сюда, не иначе, мол, как несчастье, да тут, слава Богу, барыня подъехала, очень уставши и порванная, мамаше разъяснила. Мамаша вышли к управляющему, так и так, мол, случай незначительный и благополучно. Управляющий хотел вам встречу выехать, где вы остались, да мамаша говорят не надо, что вы пешком придете. А вы вон как запоздали… И не кушамши… Генерал с мамашей в гостиной вас дожидаются, а барыня у себя, нездоровы, и ехать, слышно, завтра в Москву им надо…
Не дослушав, я прямо пошел в гостиную. Там горела высокая лампа (ее зажигали только в торжественных случаях). На диване с прямой спинкой сидела мама, сложа руки на коленях, рядом, в кресле, генерал. Лицо его было грозно.
Я остановился на пороге.
— Поди сюда, — сказала мама. — И затвори двери. Дверей в гостиной было три, я все их затворил, подошел к
маме.
— Ты хулиган, — сказала она. — Тебя надо связать, запереть… Ты осмелился, в доме своей матери…
Я еще не понимал. Думал еще свое. Неужели Магдалина Кирилловна рассказала?..
Но генерал, уставив на меня седые брови, угрожающе прошамкал:
— Ты посягнул…
Мгновенно мне стало все ясно. Прилив глупого смеха сдавил горло. Сдержал его, конечно. Надо быстро сообразить, как дальше, и я почти не слушал маминого рыдающего голоса:
— Она приехала, как сумасшедшая. Вуаль разорван… Я заставила ее сказать мне правду. Это несчастная женщина, едва вырвавшаяся из рук насильника… И кто же этот насильник? Кто этот развратник? Мой сын!
Задохнулась, прибавила вдруг, менее патетически:
— Теперь она по всей Москве этот скандал расславит… Показаться никуда нельзя…
Но я уже сообразил план действий. План отчаянный, но я чувствовал в себе необыкновенную силу. А тем, что выдумала Магдалина Кирилловна, я невольно восхищался. Вот какие оне хитрые! Никогда бы не придумал — я! А так и надо.
— Мама. Послушайте. Это глубокое недоразумение. Магдалина Кирилловна человек очень нервный. Она, Бог знает, что вообразила, я не успел отцепить и вуаля от сучка — ускакала, как безумная… Да, я не скрою, я чуть-чуть ухаживал за ней… Но, мама! да похоже ли на меня, чтобы я?.. Да ведь это смеяться бы надо, если б не огорчение ваше и Магдалины Кирилловны, которую я глубоко уважаю!
В голосе моем была такая разумная твердость (при слове «смеяться» я слегка усмехнулся), что мама поглядела растерянно. А я продолжал:
«— В две минуты я могу разъяснить это самой Магдалине
Кирилловне. Каково ей терпеть такое недоразумение! Вы увидите…
— Ах, нет, нет, не ходи к ней! — заметив мое движение, воскликнула мама. — С ней опять будет истерика, и то едва я каплями отпоила.
Дядя Одя, генерал, вздремнувший было, издал тоже грозное ворчание.
Но меня уже несла моя новая сила. Крикнув маме: «Сидите здесь, подождите, вы увидите!», я вихрем кинулся по лестнице и буквально ворвался в комнату Магдалины Кирилловны. Самый настоящий насильник не мог бы лучше сделать. При малейшем рассуждении я, конечно, поколебался бы с такой бурностью приступить к исполнению моего плана. Не естественно ли, когда так врывается в комнату только что оклеветанный человек, испугаться? Подумать, что я-то, уж наверно, явлюсь, чтобы осыпать ее новыми оскорблениями?
Но тут была иная естественность, безрассудительная. Ворвавшись, я сразу грохнулся на колени перед кушеткой, где лежала Магдалина Кирилловна. Сразу схватил ее за руки, целовал их, потом и ее обнимал, бессвязно лепеча:
— Простите меня… Прости меня, милая, дорогая… Я был в безумии… вы меня свели с ума вашим поцелуем… Я умер, я погиб… Милая, жизнь моя, счастье мое… Ведь ты поняла — же?.. Колдунья… Просто все… Прости, прости…
Мы, кажется, целовались опять, но я уже не чувствовал этих поцелуев: никакой гибели — и никакого отвращения. Если она не заметила, — то ведь поцелуи не равнодушные же были, только иного полные волнения. Но я до сих пор не знаю, поверила она мне тогда или не поверила. Может быть, вид сделала, что поверила? Но для меня вид, или и для себя тоже? Захотела. Для себя, чтоб вправду было так?
Посреди поцелуев, я, помнится, уверял, даже, что без нее «теперь больше жить не могу»… Она вскользь, но довольно твердо заметила:
— Я, все-таки, завтра должна поехать в Москву…
Я не протестовал, я лишь с великой поспешностью стал говорить, что сам туда поеду, там мы и увидимся, и что это уже решено, не правда ли? Она не прогонит меня? Не забудет?
Она улыбалась: впрочем — я мало ее видел; все это произошло очень быстро, и главное, что я помню — это, что от нее, и в комнате, сильно пахло валерианом.