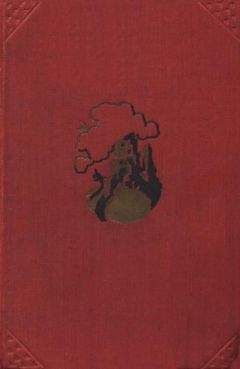Ахим Арним - Немецкая романтическая повесть. Том II
Белла отвернулась, опустив глаза на свою работу, — она чистила яблоки, — и стала подробно рассказывать, как ночью пошла в сад, как бешеная собака бросилась там на нее, как черный Самсон сцепился с ней и они так потрепали и изгрызли друг друга, что чужая собака под конец устремилась в бегство, а искалеченный, истекающий кровью Самсон кинулся за ней, и так с тех лор она его и не видала, вероятно потому, что он почувствовал, что может взбеситься и боялся ее искусать. Трогательная сказка! Белла рассказала ее так правдоподобно, несмотря на то что это была ее первая ложь в жизни, что Брака успокоилась и только подивилась преданности собаки и счастливому избавлению Беллы от такой большой опасности. Теперь Белла набралась духу плести и впредь ей всякий вздор, если понадобится, о своем корневом человечке, но она с нетерпением ждала ухода старухи, потому что испытывала настоящее беспокойство, жив ли еще ее крошка.
Опорожнив горшок с луковой похлебкой, которую себе приготовила, старуха собралась, наконец, уходить. Белла заперла за ней дверь и поспешила к потайной колыбельке; с дрожащим сердцем она приоткрыла полог и с радостью увидела, что просо уже принялось на головке корневого человечка, также и можжевеловые зернышки уже крепко впились; вообще в маленьком существе было заметно какое-то внутреннее движение подобно тому, как весной на поле под первыми жаркими лучами солнца после дождя еще ничего не растет, но земля раздается и рыхлеет; и как солнце вызывает все к жизни, так и Белла своими поцелуями пробудила дремлющие силы таинственной природы. Только когда она уже не могла больше бороться с усталостью, она решилась уснуть подле своего сокровища, но так и не отняла руки от колыбели, оберегая его. Можем ли мы удивляться странной ее любви к этому человекоподобному существу после того исключительного влечения, какое она испытала к прекрасному принцу? Нет ничего священнее этой привязанности ко всему, что мы сами творим, и душа наша, пугаясь уродства мира и нашего собственного уродства, вспоминает слова библии: бог так возлюбил сотворенный им мир, что послал в него единородного своего сына. О мир, преобразись, дабы стать достойным великой сей милости!
Белла забыла о всякой корысти, о том, что волшебный человечек нужен был ей для сближения с возлюбленным ее принцем; это чудесное дитя, добытое с такими опасностями, теперь заполняло собой все ее мысли, о нем она грезила, но грезы ее не были радостны; во сне она видела своего забытого принца, как он состязался с другими в метании стрел, этой изящной игре испанцев, в которой они стараются щегольнуть и выделиться как силой и быстротой броска, так и ловким поворачиванием лошади; но принц победил всех: его стрелы срывали звезды с неба и усыпали ими ее грудь, как блестящим украшением. Большинство этих звезд потухли, но одна продолжала сиять глубоким светом посреди ее груди; и Белла все глубже и глубже, бесконечно глубоко вглядывалась в нее и не могла наглядеться, и тут пробудилась.
Проснувшись, она уж не помнила, по ком она томилась; ей казалось, что то был маленький корневой человечек, и она радостным восклицанием приветствовала его, а он ей в ответ совершенно явственно запищал, как ребенок, и так пристально посмотрел на нее своими круглыми черными глазками, словно они готовы были выскочить из его головки; его желтое сморщенное личико, казалось, соединяло в себе черты разных человеческих возрастов, а просо на его голове уже срослось в щетинистые пряди, так же как и на его тельце там, куда упали случайно просяные семена. Белла подумала, что он кричит, требуя пищи, и была в большом затруднении, что же ему дать и где ей раздобыть молока. Она долго раздумывала, наконец вспомнила о кошке, которая окотилась на чердаке, и эта мысль привела ее в восторг; котята были принесены сверху и положены в колыбель к корневому человечку, который насмешливо посмотрел на них; кошка охотно стала кормить его вместе со своими котятами, и маленьким слепорожденным пришлось терпеть, что их зоркий сосед поспевал прежде них и неприметно для матери высасывать ее молоко. То на коленях, то на корточках Белла могла часами наблюдать хитрые проделки своего человечка; когда ему удавалось перехитрить других, она видела в этом высокое его превосходство над ними, когда же он трусливо отстранялся от их когтей, — осторожность и благоразумие; но больше всего радости доставляли ей его глаза на затылке. Он уже понимал ее, когда она подмигивала ему, что какой-нибудь из котят отпал от соска, и пододвигался, чтобы ухватить его. Ее нежность к нему росла так быстро, что она страдала о каждой капле молока, которую новорожденные котята отнимали у своего чужого соседа; она долго боролась с собой, но в конце концов не могла удержаться, чтобы не унести украдкой одного из котят, и положила его в траву у самого ручья. Затем она пустилась бежать, чтобы он не увязался за ней, но не успела она отбежать нескольких шагов, как услышала, что что-то плюхнулось в воду; она невольно обернулась и увидела, как поток уносил маленькую слепую кошечку. Ей стало грустно, она подумала о своем невинном отце, который уплыл по той же дороге, она уже готова была прыгнуть в воду, но осталась стоять на берегу, чувствуя, что согрешила; над ней было темное небо, под ней холодная земля, воздух вокруг нее беспокойно колебался; она скрылась в дом и заплакала. Когда же корневой человечек увидел это своими затылочными глазами, то принялся так громко смеяться у кошачьей груди, что кошка выпрыгнула, унося с собой одного из котят, который со страху вцепился в нее зубами.
Теперь корневой человечек до того разошелся, что уже мало стал интересоваться теплым молоком, и хотя он имел вид старичка, съежившегося в ребенка, но обладал всеми дурными свойствами маленьких детей. Видя, что Белла раздражена на него из-за гибели котенка, он нарочно как можно теснее прижимался к ней, и она не могла его побить, да и что иное она могла сделать, как не поцеловать его и предоставить ему полную волю, которая проявилась в том, что он стал хватать разные корешки, которые не были разложены здесь в комнате ее отцом, но были отброшены старой Бракой, скравшей их и не знавшей, что с ними делать. Чуть только наш человечек отведал один волшебный кладоискательный корень, как принялся так смешно прыгать и кувыркаться через столы и стулья, что Белле стало жутко и она невольно отвела глаза, а потом боязливо, как наседка за вылупившимся цыпленком, стала бегать за ним и присматривать, но не могла ни схватить его, ни достать до него. Скоро он уже ухитрился обшарить все углы в поисках того, что ему было нужно; первым делом он нашел еще говорной корень, который зеленые попугаи приносят с высочайшей вершины Чимборасо в равнину, где древесные змеи выменивают его у них на яблоки, растущие на заповедном дереве; отнять же его у змей может один только дьявол, а получить его от сего последнего нелегко, и немало почтенных педагогов тщетно ломали себе над этим голову. Алчно пожрав этот тошнотворный корень, он прыгнул на печь, и, подобно тому как птица, у которой отросли подрезанные крылышки, к изумлению своего хозяина, вдруг вылетает в окно, садится на дерево и, прежде чем скрыться в воздушном просторе со своей вольной песенкой, насмешливо насвистывает мотив, которому обучил ее сам хозяин, — так и первые слова человечка были насмешливым повторением наставлений Беллы: «Будь послушен, будь разумен, будь паинька!» Он без умолку твердил эти слова; она готова была поколотить его, но он сидел слишком высоко. Наконец, чтобы истощить все ее терпение, он надел себе на нос старые заржавленные очки и стал дразнить ее сумасбродными выдумками о всяких проделках, которыми он собирался тешиться над всеми и каждым. Белла громко расплакалась и не в силах была смотреть на него, ибо глаза ведь — самое задушевное, что есть в человеке, и, право, может привести в отчаяние, когда слабость этого органа вынуждает поместить грубые бесчувственные стеклышки между любимым человеком и нами; ум может помутиться у зоркого человека при виде того, как орган чувства, который блаженствует в стихии света и воздуха, теперь должен прибегать к помощи грубой силы земли, неизбежно принижающей и уничтожающей его. Очки — это ужаснейшая темница, из которой весь мир представляется искаженным, и только привычка может сгладить тот ужасный образ мира, в каком он представляется через них. Белла действительно ужаснулась до глубины души на своего любимца, которого боготворила; она сознавала, что нужно изобрести какое-то средство, чтобы укротить альрауна, и решила поговорить об этом с Бракой. Но как только она тихомолком приняла это решение, человечек закричал ей с карниза комнаты:
— Слушай, Белла, я наблюдал за тобой своими затылочными глазами, и мне сдается, что ты уж не так меня любишь, как вначале, и если это верно, то не сдобровать тебе!
Белла испугалась, как уличенная преступница; такое всеведение, или, лучше сказать, такое проницательное зрение человечка, повергло ее в отчаяние; страх укрепил ее намерение развязаться с этим жутким чертенком. А тут он опять закричал с карниза: