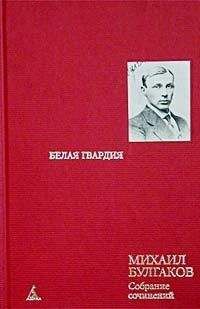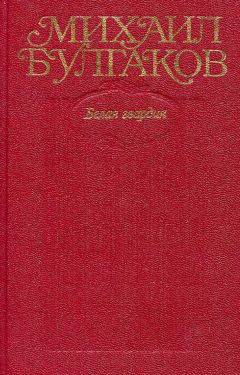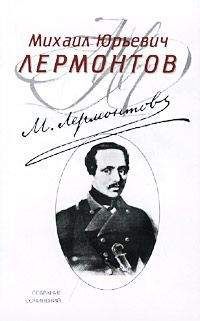Михаил Булгаков - Окончание романа «Белая гвардия». Ранняя редакция
— Кто командует?
— Полковник Мащенко.
Турбин еще раз перечел подпись — «Начальник Санитарного Управления лекарь Курицький».
— Вот тебе и кит и кот, — возмущенно и вслух сказал Николка.
.....................................
.....................................
[21]
Пан куренный в ослепительном свете фонаря[25] блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим — паном куренным:
— В бога и мать!!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь. И если ты не поморозив, так я тебя расстреляю, бога, душу, твою мать!!
Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, нависшую над Слободкой, и давнул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно-весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, весело кувыркнувшись — трах-тах-ах-тах-дах, — взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.
Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Турбина сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черной стеной, гнилой парапет крякнул, лопнул, и доктор Турбин, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.
Так — снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб — он горячий как кипяток.
Доктор Турбин вонзился как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на руках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) — и, наконец, твердая обледеневшая покатость. На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал о колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.
С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — безукоризненная темно-синяя ночь, густо усыпанная звездами.
К дрожащим звездам Турбин обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:
— Я — дурак!
Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:
— Дураков надо учить. Так мне и надо. За то, что не удрал...
Закоченевшей рукой он вытащил кой-как из кармана брюк платок и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:
— Господи, если Ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту. Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт. Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы. Ну и мерзавцы. Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же вон оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.
Турбин сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке — полковник Мащенко. Оба они, конечно, падают на колени.
— Змилуйтесь, добродию, — вопят они.
Но тут доктор Турбин выступает вперед и говорит:
— Нет, товарищи, нет. Я — монар...
Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух нужно убить как бешеных собак. Это — негодяи. Гнусные погромщики и грабители.
— А-а... так... — зловеще отвечают матросы.
— Д-да, т-товарищи. Я сам застрелю их.
В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.
Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Турбин опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.
Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгинули в загадочной Слободке. Шагах в двух от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.
— Скидай, скидай, зануда, — говорил он. На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз. Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизая, пятнистая заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзкую тряпку.
«Убьет... убьет... — гудело в голове, — ведь целы ноги у этого идиота. Господи, чего же он молчит. Вмешаться? Не поможет, самого, чего доброго... Ах, я сволочь».
Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.
Сечевик сбросил наконец омерзительную ветошку, медленно обеими руками поднес ногу к самому носу пана куренного. Торчала совершенно замороженная, белая корявая ступня.
Мутное облако растерянности смыло решимость с круглого лица пана куренного.
— До лазарету. Пропустить його.
Больничные халаты расступились, и сечевик, ковыляя, пошел на мост. Турбин глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним. Тут. Вот он — Город — тут. Горит на горах за рекой Владимирский крест, и в небе лежит фосфорически бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой. О мир. О благостный покой...
Звериный визг внезапно вырвался из белого здания. Визг. Потом уханье. Визг.
— Жида порют, — негромко и сочно звякнул голос.
Турбин застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, случайно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом. Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.
— Что это такое? — звонко и резко выкрикнул чей-то голос. Только когда широкоскулое подобие оказалось у самых глаз Турбина, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще минута человеческого воя, и он с легким и радостным сердцем впустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане, пораженное выходкой врага.
— За что же вы его бьете?!
Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме, и самого Турбина. Новая толпа дезертиров-сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренный, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.
— Сыняя дывызия! Покажи себе, — как колотушка, стукнул голос полковника Мащенки. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, хрипя от налезавшей щетины штыков, встал на дыбы.
— Кроко... руш!!
Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой ошалевших сечевиков. В грохоте смутно послышался голос:
— Хай живе батько Петлюра!!
___________
О звездные родные украинские ночи.
И мир, и благостный покой.
___________
В десять часов вечера, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора, и вообще все к черту, там — в Городе за рекой, в чудной квартире был обычный мир в вещах и смятение в душах. Елена ходила от одного черного окна к другому и всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в темной гуще с огоньками Слободку и брата. Николка и Леонид Юрьевич ходили за ней по пятам.
— Да брось, Леля! Ну чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случится. Ведь догадается же он удрать!
— Ей-Богу, ничего не случится, — утверждал и Леонид Юрьевич, и намасленные перья стояли у него дыбом на голове.
— Ах, ну к чему эти утешения. Поймите, они его в Галицию утащат.
— Ну, что ты, в самом деле! Придет он...
— Елена Васильевна.
— Хорошо, я проаккомпанирую... Позвольте. — Елена взяла Леонида Юрьевича за плечи и повернула к свету. — Боже мой! Что это за гадость? Что за перья? Да вы с ума сошли. Где пробор?
— Хи-хи. Это он сделал прическу а-ля большевик.
— Ничего подобного, — залившись густой краской, солгал Леонид Юрьевич.
Это, однако, была сущая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной полотняной вывеской «Голярня», Леонид Юрьевич зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Леонид Юрьевич вправо, и тот вправо, влево и влево... Наконец разминулись.