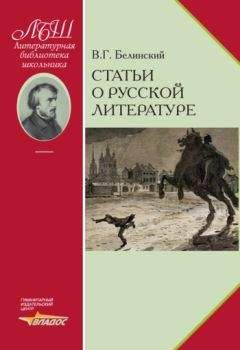Виссарион Белинский - Мысли и заметки о русской литературе
Вообще вместе с удивительными и быстрыми успехами в умственном и литературном образовании проглядывает у нас какая-то незрелость, какая-то шаткость и неопределенность. Истины, в других литературах давно сделавшиеся аксиомами, давно уже не возбуждающие споров и не требующие доказательств, - у нас все еще не подвергались суждению, еще не всем известны. Вы, например, не написали никакой книги, а между тем издаете журнал, пользующийся огромным успехом, - и ваши противники кричат, что ваш журнал плох, _потому что_ вы не написали никакой книги. {43} Это "потому что" очень оригинально! Да если журнал хорош, какое вам дело до того, написал или не написал его издатель книгу? - Вы занимаетесь критикою, и хоть настолько успешно, чтобы живо затронуть чужие мнения или пристрастия и нажить себе врагов: не думайте, чтобы ваши противники стали опровергать ваши положения, оспаривать ваши выводы. Нет, вместо всего этого, они начнут вам говорить, что, ничего не написавши сами, вы не имеете права критиковать других; что вы молоды, а между тем судите о произведениях людей, которые уже стары, и т. д. Подобные выходки хоть кого приведут в затруднительное положение, - не потому, чтобы трудно было отвечать на них, злотому именно, что слишком легко отвечать на них. Но у кого же достанет духу опровергать подобные мнения, с важностию доказывать, что можно не быть поваром - и верно судить о столе; не быть портным - и безошибочно сказать свое мнение о достоинстве или недостатках нового фрака; - так же точно, как не уметь писать стихов, романов, повестей, драм - и быть в состоянии дельно и здраво судить о чужих произведениях; и что если в сфере гастрономии иметь тонкий вкус есть своего рода талант, - то тем более это в сфере искусства и что критика есть своего рода искусство. Есть истины, которые даже пошлы потому именно, что слишком очевидны, как, например, то, что летом тепло, а зимою холодно, что под дождем можно вымочиться, а перед огнем высушиться. А между тем у нас иногда необходимо защищать подобные истины всею силою логики и диалектики… Но это еще может быть только или смешно, или досадно, смотря по расположению вашего духа; но бывают явления, от которых не захочется смеяться. Вспомните только, что произведение, верно схватывающее какие-нибудь черты общества, считается у нас часто пасквилем то на общество, то на сословие, то на лица. От нашей литературы требуют, чтобы она видела в действительности только героев добродетели да мелодраматических злодеев и чтобы она и не подозревала, что в обществе может быть много смешных, странных и уродливых явлений. Каждый, чтоб ему было широко и просторно жить, готов, если б мог, запретить другим жить… Писаки во фризовых шинелях, с небритыми подбородками, пишут на заказ мелким книгопродавцам плохие книжонки: что ж тут худого? Почему писаке не находить свой кусок хлеба, как он может и умеет? - Но эти писаки портят вкус публики, унижают литературу и звание литератора? - Положим так; но чтобы они не вредили вкусу публики и успехам литературы, для этого есть журналы, есть критика. - Нет, нам этого мало: будь наша воля - мы запретили бы писакам писать вздоры, а книгопродавцам издавать их… И откуда, от кого выходят подобные мысли? - из журналов, от литераторов!.. Между ними есть ужасные запретители: кроме своих сочинений, так бы все и запретили гуртом… Некоторые и на этом не остановились бы, но желали бы запретить продажу всяких других товаров, - даже хлеба и соли, кроме своих сочинений… Явился у нас писатель, юмористический талант которого имел до того сильное влияние на свою литературу, что дал ей совершенно новое направление. Его стали порочить. Хотели уверить публику, что он - Поль-де-Кок, живописец грязной, неумытой и непричесанной природы. {44} Он не отвечал никому и шел себе вперед. Публика, в отношении к нему, разделилась на две стороны, из которых самая многочисленная была решительно против него, - что, впрочем, нисколько не мешало ей раскупать, читать и перечитывать его сочинения. Наконец и большинство публики стало за него: что делать порицателям? Они начали признавать в нем талант, даже большой, хотя, по их словам, идущий и не по настоящему пути; но вместе с этим стали давать знать и намекали прямо, что юн, будто бы унижает все русское, оскорбляет почтенное сословие чиновников и т. п. Но эти господа хлопочут совсем не о чиновниках, а о самих себе: им бы хотелось заставить молчать всю современную литературу, чтобы публика, не имея ничего хорошего, поневоле принялась за чтение их сочинений и начала бы снова покупать их… И это все печатается, а публика читает, потому что если бы этого никто не читал, - то это и не печаталось бы… Все мнения находят у нас место, простор, внимание и даже последователей. Что же это, если не незрелость и не шаткость общественного мнения? Но со всем этим, истина и здравый вкус все-таки идут твердыми шагами и овладевают полем этой беспорядочной битвы мнений. Если всякий ложный и пустой, но блестящий талант непременно пользуется успехом, то не было еще примера, чтоб истинный талант не был у нас признан и не получил успеха. Ложные авторитеты падают со дня на день. Давно ли слава Марлинского - этого жонглера фразы, казалась колоссальною? - теперь о нем уже и не говорят, не только не хвалят, даже и не бранят его. Таких примеров можно бы привести много. Все это доказывает, что и литература и общество наше еще слишком молоды и незрелы, но что в них кроется много здоровой жизненной силы, обещающей богатое развитие в будущем.
Раз где-то была высказана мысль, что у нас больше художественных, нежели беллетристических произведений, больше гениев, нежели талантов. Как всякая самобытная и оригинальная мысль, она возбудила толки. И действительно, с первого взгляда эта мысль может показаться странным парадоксом; но тем не менее она справедлива в основании. Чтоб убедиться в этом, стоит только бросить беглый взгляд на ход нашей литературы, от ее начала до настоящего времени. Беллетрист есть подражатель, он живет чужою мыслию - мыслию гения. Правда, гении первого периода нашей литературы, до Пушкина, были не чем иным, как беллетристами, в отношений к европейским писателям, у которых они учились писать, заимствовали и форму и мысли; но в нашей литературе роль их была совсем другая. Кантемир подражал Горацию и Буало и со всем тем в русской литературе был совершенно оригинальным писателем, предметом удивления для современников, которые видели в нем гения, и уважения для потомства, которое видит в нем одно из замечательных лиц нашей литературы. Нечего и говорить в этом отношении о Ломоносове, Державине и Фонвизине: это были действительно гениальные люди, а второй из них даже был действительно гениальным поэтом. Но и Сумароков, Херасков, Петров, Богданович и Княжнин считались в их время, и даже долго после их смерти, великими поэтами. Сергей Николаевич Глинка - сей почтенный и всегда вдохновенный ветеран нашей литературы, и теперь считает их великими поэтами. И хотя наше время думает об этом совсем иначе, однакож оно не может не согласиться, что и мнение Сергея Николаевича Глинки и его времени имеет свое основание. {45} Первые деятели всякой литературы, а особенно подражательной, являются даже и потомству в таких больших размерах, которые уже не существуют для таких же талантов, но являющихся позже, уже во время успехов и развития литературы. Сумароков, по убеждению его современников, далеко оставил за собою и баснописца Лафонтена, и трагиков Корнеля и Расина, и сравнялся с господином Волтером. Херасков был нашим Гомером, Петров - Пиндаром, Богданович - Зефир давал ему перо из своих крыл, и Амур водил его рукою, когда он писал "Душеньку"… Но много ли породили подражателей эти, положим, _условные гении_? Много ли породил подражателей сам Державин? Правда, торжественных од было в те блаженные времена написано и напечатано мильйоны; но это оттого, что тысячи рук писали их, и если на каждую руку по одной оде - так уж выйдет страшный итог. Но много ли дошло до нас имен; талантливых беллетристов, порожденных движением, сообщенным нашей литературе ее первыми гениями? Положим, что у Сумарокова, Хераскова и "Петрова и не могло быть талантливых подражателей; но много ли было их у Державина? Несколько од написал Дмитриев; и немного больше написал их Капнист - вот и все… Оды обоих этих поэтов, по числу - ничто в сравнении с численным! богатством од Державина. А между тем так естественно, что беллетристу легче писать много, нежели его образцу; но у нас это всегда бывало наоборот. Макаров и Подшивалов, очень мало написавшие, особенно последний, действовали независимо от Карамзина; подражателями же Карамзина были Владимир Измайлов, князь Шаликов и, право, не помним, кто еще: так мало их было, и бывшие так мало и вяло писали! Влияние Жуковского было обширнее: у него и теперь и всегда можно учиться переводить, стих его тоже всегда будет образцовым. Козлов, г. Ф. Глинка и частию г. Туманский были отголосками музы Жуковского. Гений Пушкина породил еще более подражателей, у которых нельзя отрицать таланта и которые в свое время пользовались огромною известностию; но, все вместе взятые, они едва ли написали половину того, что написал один Пушкин, хотя и он написал не очень много, - и как скоро пережили они свой талант и свою известность! И теперь пишут многие; один сходит со сцены, то есть забывается (это у нас делается необыкновенно скоро), другой является, в сложности все производят довольно много (по крайней мере относительно), но каждый особенно пишет очень мало. И притом все претендуют на художественность, на творчество, никто не хочет быть просто рассказчиком, сказочником, беллетристом. Почти все пишут на заказ, зная вперед, сколько даст им каждая строчка, каждое слово, каждая запятая; но в то же время, все пишут и по вдохновению. Многие продают еще ненаписанные повести, но не потому, что слишком много пишут и много получают заказов, а потому, что слишком мало пишут. Иной разразится повестью в год - и смотрит Наполеоном после аустерлицкой битвы. Удастся написать в год две повести: это уже равняется завоеванию всего мира. Оттого у нас нет беллетристики, и публике нечего читать. Все сколько-нибудь замечательные произведения каждого года (со включением сюда и таких, которые только что сносны) можно перечесть по пальцам. Во Франции это делается иначе: там пишут полосами, и каждый сколько-нибудь известный беллетрист исписывает ежегодно целые томы, чуть не десятки томов, не заботясь о том, за что примет его публика - за гения или просто за талант. Там беллетрист пишет гораздо более, чем художник-поэт: Жорж Занд написала много больше, нежели сколько у нас пишется многими в продолжение многих лет; но кипа сочинений Жоржа Занда в сравнении с кипою сочинений Ежена Сю или Александра Дюма - то же, что озеро в сравнении с морем или море в сравнении с океаном. Оно и естественно: творчество не покоряется воле, и художнику нужно время обдумать и выносить в уме своем концепированную им мысль… В настоящем, в истинном значении этого слова, у нас было и есть только три беллетриста: это - гг. Булгарин, Полевой и Кукольник. Неутомимость их изумительна…