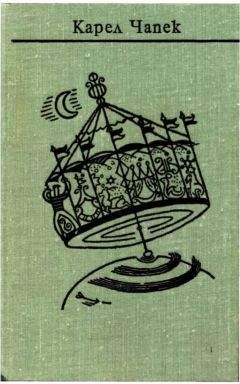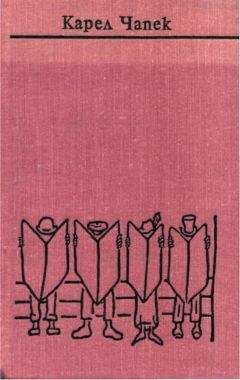Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 5. Путевые очерки
Все же остальное в Неаполе — это крик, грязь и живописность.
Палермо
Я предпочел бы даже не писать этого; мне стыдно, что я не могу четко сказать, что самое прекрасное в мире: путешествие по морю, Монреале или садик в Сан-Джованни-дельи-Эремити. Что касается Палермо, то еще вчера я написал бы вам, что это — самый чистый город во всей Италии; сегодня же, после того как я пошатался вокруг порта Кала, я думаю, что он — самый грязный город из всех, считая Неаполь и Рокка-ди-Папа. Зато бесспорное преимущество сицилийцев в том, что они почти совсем не попрошайничают, вообще они кажутся строже и достойнее, чем кудрявые неаполитанцы, там, севернее; в Сицилии, видимо, сказывается влияние испанской культуры. Испанское влияние — последнее по времени; первым было греческое, вторым и третьим — сарацинское и норманнское; Ренессанс заглянул сюда только так, мимоходом. Залейте все эти элементы культуры ослепительным солнцем, добавьте африканскую почву, тучи пыли и великолепную растительность: вот вам Сицилия.
Впрочем, нет, еще здесь есть местная культура, — ее вы можете увидеть на двуколках всех крестьян, населяющих залив Золотой Раковины. Дело в том, что эти двуколки великолепно размалеваны: сюжетами легенд, рыцарских турниров, историческими сценками, картинками войны, драматическими эпизодами современной жизни; и все это изображено с готической примитивностью, пожалуй, в манере фигур на старых картах; точно так же расписан потолок в Трибунале, если не ошибаюсь, относящийся к XV веку. Первую двуколку я вознамерился было тотчас купить: она показалась мне настоящим музейным экспонатом. Но за два дня я перевидал их несколько тысяч, и среди них попадались настоящие чудеса полихромии. Если где и живет народное искусство полной жизнью, так именно здесь.
А теперь — Монреале, чудо, богатейший ковчег романского искусства; это — собор, от потолка до пола выложенный золотыми мозаиками; они, правда, не достигают благородной красоты равеннских мозаик, — которые, к слову, старше на несколько столетий, — но могут считаться превосходнейшей, монументальнейшей сокровищницей романского декоративного искусства, так же, как и Капелла Палатина здесь, в Палермо, вызывающая головокружение, так же, как галерея с крестовыми сводами в Монреале, где вы можете сойти с ума от примерно трехсот фигурных колонн, причем каждая капитель оригинальна и представляет собой запутанный клубок орнамента и легендарных сцен, животных, мусийных работ — и, наконец, так же, как орнаменты, и полы, и фризы, здесь в Монреале, превосходящие все, что я до сей поры представлял о возможностях чисто геометрической орнаментики. И затем — сам Монреале, странный город, прилепившийся на склоне горы посреди древовидных кактусов, пальм, смоковниц и не знаю каких еще удивительнейших деревьев, город, изобилующий испанскими и сарацинскими решетками, город мягкого, необычайно живописного барокко, грязного белья, осликов, детей, поросят, фронтонов в народном духе, прекрасных видов, простирающихся до самых Липарских островов, — первый город, в котором у меня в буквальном смысле слова разбегались глаза.
И — опять нечто совсем иное: садик, окруженный старой полуразвалившейся галереей с крестовыми сводами в Сан-Джованни-дельи-Эремити. Сама церквушка — старинная мечеть с мавританскими куполами; и на крошечном клочке земли, окруженном мавританскими стрельчатыми арками, выросло и расцвело все, что сумасшедшее щедрое небо даровало Золотой Раковине, палермскому заливу. Несколько апельсиновых и лимонных деревьев сгибаются под бременем зрелых плодов — и одновременно цветут; финиковая пальма, осыпавшиеся розы, кусты, несущие литрового объема трубчатые соцветия, растительность, незнакомая мне, заросли цветов с дурманящим ароматом. На невероятно синем небе вырисовываются пять алых сарацинских куполов, похожих на гигантские глобусы. Мой бог, этот уголок земли был все же, пожалуй, самым прекрасным из всего, что я видел.
В Монреале есть чудесные мозаики о сотворении мира; сам Микеланджело в Сикстинской капелле[51] не постиг с такой глубиной сотворение света, и вод, и суши, и небесных тел, а главное — он забыл или не сумел показать, как бог в день седьмый «увидел, что это — хорошо», и предался отдыху. Бог в Монреале отдыхает, погруженный в мечты, как хозяин после трудового дня, сложив руки на коленях. Впрочем, и сам творец забыл кое-что: он, правда, велел Адаму назвать именами всех зверей и тварей водяных, но не велел ему дать имя всем запахам. Вот почему язык человеческий не в силах выразить все ароматы и оттенки смрада. Смешайте запахи жасмина, гнилой рыбы, козьего сыра, прогорклого растительного масла, испарений человеческих тел, дыхание моря, эфирных масел от апельсинов, кошек — и вы получите вдесятеро слабейшее представление о том, чем пахнет портовая улица. Да не забудьте еще детские пеленки, гниющие овощи, козий помет, табак, пыль, древесный уголь и помаду. Добавьте сюда запахи прели, помоев, мокрого белья, пригоревшего масла. Но и этого будет мало. Это просто невыразимо.
Невыразимы красоты и странности мира.
От Палермо до Таормины
Оплатите мне звонким золотом эти строки — не потому, что они отличаются какой-нибудь особенной красотой, а потому, что самому мне пришлось дорого за них заплатить. Но даже если считать по десять сантимов за каждую звездочку и по сантиму за каждый шумный вздох моря, по десять лир за красный огонек на вершине Этны и за бальзамический воздух по пол-лиры в час, — как видите, я не ставлю в счет ни бликов на море, ни пальм, ни старого замка, ни даже греческого амфитеатра, потому что ночью ему нечем привлекать взоры, — то все равно заплатить за это стоит, и да будет благословен господь за то, что он привел меня в эти края.
Своей волшебной властью он провел меня из Палермо сначала через всю Сицилию, мимо множества голых, странных и грустных холмов, аллеями кактусов, через серные рудники — в Джирдженти, то есть в небольшое местечко на холме, недалеко от которого — целая колония греческих храмов. Эти храмы были выстроены в дорическом стиле, и следовательно — очень красивы. В тот день как раз был праздник вознесения, и местный люд со всех окрестностей съезжался к этим **, наиболее сохранившимся памятникам древнегреческой культуры; люди пили и ели и рассказывали детям, что вот это, мол, греческие храмы; другие же с важным видом измеряли складными метрами поперечники колонн и каменных плит и вообще явно гордились упомянутыми храмами. Случилось так, что на обратном пути ко мне присоединился джирджентский юноша; он заговорил со мной на каком-то наречии, которое, вероятно, считал французским языком. Потом, уж не знаю, как это получилось, я вдруг оказался окруженным двенадцатью девушками, очень красивыми, а сзади них тянулась стайка славных парней; шествие это завершало стадо коз, покрытых белой шелковой шерстью и с кручеными рожками. Так шел я в золотой закатной пыли, попеременно говоря то по-чешски, то по-итальянски, то по-французски, похожий на предводителя какой-то вакхической процессии; встречные, ехавшие на ослах или мулах, снимали перед нами шляпы и долго еще смотрели нам вслед. До конца своих дней не пойму я смысла этого античного эпизода.
После этого бог водил меня весьма сложными путями от берегов Африканского моря к берегам моря Ионического. Вдоль дороги — снова холмы, холмы зеленые или белые, гребенчатые, холмы серные или изрытые пещерами, как сыр, и странные города, вскарабкавшиеся на самые верхушки высоченных гор, — как Enna inexpugnabilis,[52] она же Кастроджованни, торчащая в облаках над крошечным вокзальчиком, скорчившимся у самого входа в туннель; потом над зреющими хлебами выплывает снежная вершина Этны и снова исчезает в облаках, потом пошли малярийные болота и синее море, и вот уже — Сиракузы, город на острове, кусочек древних Сиракуз. Ведь древние Сиракузы стояли на суше и имели огромные размеры; там был театр, амфитеатр и прославленные каменоломни, а ко всему этому еще христиане нарыли гигантские катакомбы. Сиракузские каменоломни называются латомии и очень красивы: это — растительный рай, окруженный скалистыми стенами; единственный вход стережет кустод, которому платят за это. Потому-то тиран Дионисий содержал в латомиях своих пленников. Сиракузские крестьяне тоже разрисовывают свои повозки, только историческим сюжетам они предпочитают картинки из жизни знати; некоторые из этих повозок очаровательны.
Может показаться, что я мало говорю об античных памятниках. Я мог бы, конечно, написать о них больше: в путеводителе указано все — и к какому веку они относятся, и толщина колонн, и их количество. Но душа моя, видимо, слишком неисторична; лучшие мои впечатления об античности относятся скорее к явлениям природы — например, золотой закат в золотистых джирджентских храмах, или белый полуденный зной в греческом амфитеатре, по сиденьям которого бегают прелестные зеленые ящерицы; или одинокий благородный лавр у поверженной колонны, огромный черный уж во дворе дома трагического поэта в Помпее[53], запах мяты и бегонии — ах, самое прекрасное, самое безграничное в мире — это не вещи, а минуты, мгновения, неуловимые секунды.