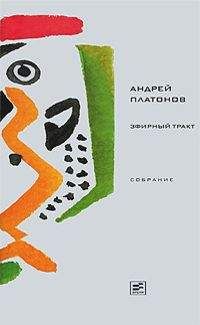Андрей Платонов - Ямская слобода
– А на шитье-то ты усидчив? – любопытствовал Сват.
– Это для меня пустота! – заявил гость. – Это я могу неотлучно неделями сидеть, лишь бы хлеб рядом лежал!..
В слободе кротко звонили к вечерне, а три друга утомлялись за работой. Чтобы перебивать усталость, Сват время от времени пытал гостя:
– Ну а что ж ты у нас обосновался? Аль у тебя родных нет?
Гость спохватывался и сообщал:
– Была жена да теща: жена ребенка заспала и сама удушилась на полотенце, а теща теперь на паперти с рукой стоит! Вот я теперь и тоскую сам с собой: сын бы нужон мне, да жены сразу не сыщешь.
– Зачем тебе сын? – удивился Сват. – Ты сам хлеба не ешь – мученика хочешь родить?
– Ну а то как же? – ничего не понимал гость. – Мне теперь не жить, и никому не цвесть – то война, то забота, – нет ничего задушевного. А сын малолетства не запомнит, а вырастет – тогда будет хорошо...
Сват сомневался:
– То никому не известно! Может, тогда еще больше увечья будет!
– Нельзя, я тебе говорю! – злобно заспорил гость и встал с пола. – Немыслимое дело! Я только молчу, а у меня с горя сердце кровью мокнет! Я весь заржавел от скорби – не знаю, куда мне деться! Ты думаешь – я с радости у тебя на пол сел за твои шапки, дырявая голова!.. Я на фронте был – там народ поголовно погибает, а ты говоришь, что сын мой еще больше увечиться будет! Да разве я дам его какой сволочи! Разве я пущу его на такое мученье, хамское ты отродье, дурак заштопанный? Да я горло гнилыми зубами по швам распущу за такое дело – любому сукину сыну – в полмомента!..
Сват сидел и улыбался, довольный, что задел гостя за живое нутро. А гость подышал немного, собрал разбежавшиеся от возбуждения слова и снова принялся бить:
– Бабьи ублюдки, недоноски чертовы! Выдумали царя, веру, запечатали сверху отечеством и бьют народ, чтоб верность такой выдумки доказать! Явится еще кто-нибудь – расчешет в культяпой голове иную выдумку и почнет дальше народ замертво класть! А это все чтоб одной правде все поверили! Да будь вы прокляты, триединые стервы!
Гость плюнул жидкими слюнями и треснул по плевку австрийским опорком.
Сват тянул дым из цигарки и весь светлел от удовольствия:
– Верно, друг, правильно! Живи у нас теперь задаром – я не знал, что ты такой!
Филат тоже радовался новому человеку и заговорил от себя:
– У кого есть родня дома, тот скучает на войне... А жена с сыном жальчей всех ему...
Загостивший солдат обратил внимание на Филата и, заметя его слова, открыл свою новую мысль:
– Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, и один дороже другому. И так цопко кровями все ухвачены, что расцепить – хуже, чем убить... А сверху глядеть – один ровный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом отплачивать будут?
Гость говорил и жадно шевелил пальцами, как будто лепил руками теплые семьи и сплачивал родственников густой нераздельной кровью. Под конец он успокоился и тихо сообщил:
– Дюже много люди умственно соображают – это всем бедам беда...
– Да что ты, друг! – чуть ухмыльнулся Сват. – А я думал, ум нам в нужде помощник!
Гость подумал дальше:
– Когда помощник, то хорошо, а то его на жадность тянет – вот где горе! Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернутся и плачут...
– Оставайся! – окончательно сказал Сват. – Проживем и втроем – не объешь!
Гость сейчас же стал разуваться и протяжно вздохнул, как дома. В первый раз он оглядел все жилище и нашел его удобным, потому что почувствовал такую усталость, которую не выспать за многие ночи подряд.
– Ишь! – сказал Сват ночью, когда гость спал. – Благородные люди думают, что мы рожаемся да жрем, а он вон живет и мучается, и в голове у него бурчит...
Филат дремал и думал о госте, что тяжко ему было сына и жену хоронить, – хорошо – у него нет никого, – и, не осилив себя, заснул.
Ночи понемногу кратчали, а нужда шапочников длиннела – товар перестали брать. Снег начал отапливаться солнцем и желтел от проступавшего прошлогоднего навоза. Иногда дни сверкали лучше летних – белизна замороженного снега в упор сопротивлялась солнечному огню – и чистый воздух остро мерцал от колкого холода и тягучего тепла.
Слобода жила зажмурившись – война подсушила благополучие ямщиков, и люди не хотели в такое время замечать роскошь новой весны.
Захар Васильевич тщательно работал на железной дороге и боялся одного – снятия с учета и отправки на фронт. Два мальчика его росли, но отец любил их грубо, ничем не баловал и не ласкал.
А Настасья Семеновна обмирала о детях и так боялась за своих первенцев, что постоянно мучила их лекарствами, трепеща до ужаса от детского поноса.
Макар шорничал и любовно готовился к летнему кузнечному ремеслу, заранее вкушая прелесть открытых летних дней. Прочие люди также жили толково, каждый надеясь на что-нибудь лучшее и легкое.
Сват радовался увеличению света и тепла на дворе, но немного кручинился и завидовал мертвым неподвижным вещам: им незнакома была забота о еде и благополучии, они жили в каком-то покое и полном отдании себя.
– Летом с голоду и нарочно не умрешь! – говорил гость Миша, узнав про заботу Свата. – Можно голубей бить, рыбки сходим наловим, зелени съедобной надергаем – вот и суп и уха, а на второе блюдо – гуща!
Однако Сват загодя отправил Филата на его прежний заработок в слободу.
– Хоть и жалко тебя, кроткий человек, и сдружились мы с тобой, но сам видишь – втроем невтерпеж, а Мише некуда деваться!
Второй день мастера уже ничего не делали, а нынче Миша сходил за хлебом на последний пятак и то не мог донести хлеб в целости до дома – весь по дороге исковырял и выел мякушко.
– Ну-ка что ж! – сказал Филат. – Пойду по дворам наведываться – где-нибудь останусь! А к вам, Игнат Порфирыч, в другой раз буду побалакать приходить!..
6
Весна негромко проступала сонной мокрой землей на всяких вздутиях почвы. Филат шел и радовался, что у него есть знакомый – Игнат Порфирыч, и дом на свалках, куда можно всегда пойти.
Устроился он у Макара – доделывать четыре хомута и караулить кузницу, а сам Макар поехал по железной дороге наменять угля для горна. Многие люди в слободе говорили, что нельзя достать необходимых вещей, но ни Сват, ни Филат, ни Миша ни разу не имели нужды в таком предмете, который бы пропал из продажи. Поэтому только в слободе Филат понял, что такое война и ее сосущая, обездоливающая сила.
Слобода от сырости и отсутствия ремонта вся побурела и скорбно глядела запавшими окнами, как человек впроголодь. Собаки похудели и ночью молчали. И все шло в какую-то прорву; даже Филату жалко стало, и он готов был работать за самую плохую еду. Но Макар оставил ему пищи достаточно, потому что зимой занимался нужным ремеслом, работал на мужиков и в пище себе не отказывал.
Макар не возвращался долго, и Филат скучал без дела – хомуты он давно пошил. Каждый день он ходил к Свату и Мише: тем совсем было худо, и они существовали только тем, что Филат приносил из своих остатков.
А Филат приносил не остатки, а почти все, что ему полагалось есть у Макара, а себе оставлял одну хлебную горбушку и четыре картошки.
– Да ты сам-то сыт? – спрашивал Сват. – Гляди, съесть нам немудрено, а ты ослабнешь!
– Не ослабну! – стеснялся Филат. – Работы сейчас нету, а на одно дыханье много есть не надо.
Сват обижался:
– Сообразил – дыханье! Ты погляди на Мишу: он тоже одним дыханьем занимается, а может сейчас любого зверя съесть!
– Могу! – лежа подтвердил Миша и вздохнул от аппетита.
* * *Однажды Филат испуганно проснулся. В закоулке кузницы, где он спал, было так темно, что Филат чувствовал себя безопасно. Ночь за бревенчатой стеной укрыла слободу тихой чернотою и спрятала ее из мира до утра. Ничто внятно не тревожилось. Сонные ямщики, должно быть, не раз меняли отлежанные бока. Захар Васильевич говорил Филату при починке плетня, что Настасья Семеновна как повернется ночью, так он летит на пол.
– Да Настя моя еще не так толста, а у кого баба толстая – вот кому горячка! – рассуждал и смеялся Захар Васильевич.
Но сейчас – совсем тихо; на улице нельзя услышать, как падают на пол мужья от ворочающихся, разопревших жен.
Вдруг Филат вздрогнул и приподнялся, а потом услышал – раз за разом – резкую, скорую стрельбу и смутный шум далекого страха.
Забывший сам себя, Филат никогда не видел окрестностей за околицей слободы, только помнил свою детскую деревню, где рос с матерью. Филату от работы некогда было опомниться и подумать головой о постороннем, – и так постепенно и нечаянно он отвык от размышления; а потом, – когда захотел, – уже нечем было: голова от бездействия ослабла навсегда.
Поэтому Филат сейчас задрожал и испугался от непонимания стрельбы. Про войну он знал, но вообразить ее не мог ни по каким рассказам Миши.