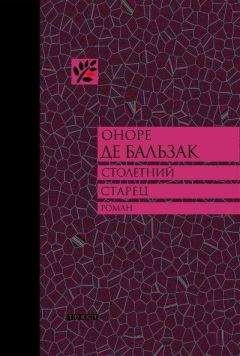Оноре Бальзак - Провинциальная муза
Но чем ярче блистала невинность г-жи де ла Бодрэ, тем менее понятным становилось ее положение в глазах любопытствующих женщин. Бывало, дамы известного возраста, собравшись у г-жи Буаруж, жены председателя суда, по целым вечерам обсуждали между собой семейную жизнь четы де ла Бодрэ. Все чувствовали здесь какую-то тайну, а разгадка подобных тайн живо интересует женщин, знающих жизнь. Действительно, в Ла-Бодрэ разыгрывалась одна из тех длинных и скучных супружеских трагедий, которые навсегда остались бы неизвестными, если бы проворный скальпель девятнадцатого века, в жадных поисках новизны, не занялся исследованием самых темных уголков сердца или, если хотите, тех его уголков, которые щадила стыдливость прошедших веков. Эта домашняя драма служит достаточным объяснением добродетельной жизни Дины в первые годы ее замужества.
Девушка, успехи которой в пансионе Шамароль имели побудительной причиной гордость, первый расчет которой был вознагражден первой победой, не должна была остановиться на таком славном пути. Как ни был жалок на вид г-н де ла Бодрэ, но для девицы Дины Пьедефер он был поистине неожиданной партией. Какая тайная мысль могла быть у этого винодела, когда он в сорок четыре года женился на семнадцатилетней девушке, и что она могла ожидать от него? Вот был первый предмет размышлений Дины. Этот человечек постоянно обманывал ее ожидания. Так, в самом начале он позволил ей взять два драгоценных гектара земли около Ла-Бодрэ, пропавшей без пользы под ее садовыми затеями, и, можно сказать, щедрой рукой отсыпал семь или восемь тысяч франков на внутреннее устройство дома, производившееся по указаниям Дины, которая могла тогда купить в Иссудене мебель г-на Руже и осуществить свои замыслы декораций — как средневековых, так и в стиле Людовика XIV и Помпадур. В то время молодой новобрачной трудно было поверить, что г-н де ла Бодрэ так скуп, как ей говорили, она даже думала, что приобрела над ним некоторую власть. Это заблуждение продолжалось полтора года. После второго путешествия г-на де ла Бодрэ в Париж Дина почувствовала в нем тот ледяной холод, каким веет от провинциального скряги, когда дело коснется денег. Обратившись к мужу в первый раз с просьбой отдать ей ее капитал, Дина разыграла грациознейшую комедию, секрет которой идет еще от Евы; но маленький человечек напрямик объявил жене, что он дает ей двести франков в месяц на личные расходы, выплачивает г-же Пьедефер тысячу двести франков пожизненной ренты за поместье де-Ла-Отуа, и, таким образом, тысяча экю ее приданого ежегодно превышается на двести франков.
— Я уж не говорю о расходах по дому, — сказал он в заключение, — я не запрещаю вам угощать по вечерам чаем с бриошами ваших друзей, потому что вам нужно развлечение, но до женитьбы у меня не уходило и полутора тысяч франков в год, а теперь я трачу шесть тысяч франков, считая налоги и деловые расходы, а это уж чересчур, если принять в соображение самую природу нашего состояния. Винодел может быть уверен только в своем расходе: обработка земли, подати, бочки; тогда как доход зависит от солнечного луча или заморозка. Мелкие землевладельцы вроде нас, прибыли которых далеко не верны, должны исходить из своего минимума, так как им не из чего покрыть лишний расход или убыток. Что с нами станется, если прогорит какой-нибудь виноторговец? Поэтому будущая прибыль для меня все равно, что журавль в небе. Чтобы жить, как мы живем, нам всегда нужно иметь деньги на год вперед и рассчитывать только на две трети нашего дохода.
Стоит женщине встретить сопротивление, как ей захочется сломить его; а Дина столкнулась с железной волей, скрытой под ватой мягчайших манер. Она попробовала было пробудить в этом человечке сомнения и ревность, но увидела, что он защищен самой оскорбительной невозмутимостью. Уезжая в Париж, он расставался с Диной так же спокойно, как спокоен бывал Медор за верность Анжелики.[17] Когда же она приняла холодный и надменный вид, чтобы задеть за живое этого уродца презрением, — прием, применяемый куртизанками против своих покровителей и действующий на них с точностью винта на пресс, — г-н де ла Бодрэ лишь устремил на жену пристальный взгляд кота, который посреди домашнего переполоха не тронется с места, пока ему не пригрозят пинком. Необъяснимая озабоченность, проступавшая сквозь это немое равнодушие, довела двадцатилетнюю женщину почти до ужаса; она не сразу поняла эгоистическое спокойствие этого человека, похожего на треснувший горшок и выверявшего, чтобы существовать на свете, весь ход своей жизни с той же неуклонной точностью, с какой часовщики выверяют маятник. Поэтому маленький человечек постоянно ускользал от своей жены; сражаясь с ним, она всегда метила на десять футов выше его головы.
Легче понять, чем описать приступы ярости, которым предалась Дина, когда увидела, что ей не вырваться ни из Бодрэ, ни из Сансера, — ей, мечтавшей управлять состоянием и поведением этого карлика, которому она, великанша, сперва подчинилась, в надежде им повелевать. Рассчитывая когда-нибудь появиться на великой арене Парижа, она мирилась с пошлой лестью своих придворных кавалеров; ей хотелось, чтоб из избирательной урны было вынуто имя г-на де ла Бодрэ, ибо она поверила в его честолюбие, когда, трижды побывав в Париже, он всякий раз поднимался ступенькой выше по социальной лестнице. Но, обратившись однажды к сердцу этого человека, она увидела, что стучит о камень!.. Бывший податной инспектор, бывший референдарий, бывший судейский чиновник по принятию прошений, кавалер Почетного легиона, королевский комиссар был попросту крот, занятый рытьем своих подземных ходов вокруг какого-то виноградника! Элегическими жалобами она тронула тогда сердце прокурора, супрефекта и даже г-на Гравье, и все они еще больше привязались к этой благородной страдалице, потому что она, как, впрочем, и все женщины, старательно избегала говорить о своих расчетах и, опять же, как все женщины, не имея возможности наживаться, порицала всякую наживу.
Дина, истомленная этими внутренними бурями, дожила в неопределенности до поздней осени 1827 года, когда вдруг разнеслась весть о приобретении бароном де ла Бодрэ поместья Анзи. Старичок внезапно оживился в порыве горделивой радости, на несколько месяцев изменившей и настроение его жены; когда он начал хлопотать об учреждении майората, ей даже почудилось в нем какое-то величие. Торжествуя, маленький барон восклицал:
— Дина, в один прекрасный день вы будете графиней!
И между супругами состоялось одно из тех внешних примирений, которые не бывают прочны и столько же утомляют, сколько унижают женщину, видимые достоинства которой ложны, а скрытые — истинны. Такое странное противоречие встречается чаще, нежели думают. Дина, которую делали смешной заблуждения ее ума, обладала высокими душевными качествами, но обстоятельства не давали повода проявиться этой редкой нравственной силе, а ум ее под влиянием провинциальной жизни все больше разменивался на мелкую монету, и к тому же фальшивую. По закону противоположности, г-н де ла Бодрэ, бессильный, бездушный и неумный, спокойно следуя раз принятой линии поведения, отступить от которой ему не позволяла его хилость, должен был в свое время показать себя человеком большого характера.
Это был первый, длившийся шесть лет, период их супружеской жизни; за это время Дина — увы! — стала провинциалкой. В Париже есть всякого рода женщины: есть герцогини и жены финансистов, посланницы и жены консулов, жены нынешних министров и жены бывших министров, есть светская женщина с правого берега Сены и светская женщина с левого ее берега; но в провинции есть только одна женщина, и эта бедная женщина — провинциалка. Это наблюдение указывает на одну из глубоких язв нашего современного общества. Запомним хорошенько! Франция в девятнадцатом веке разделена на две большие зоны: Париж и провинцию — провинцию, завидующую Парижу, и Париж, вспоминающий о провинции только, когда ему нужны деньги. Некогда Париж был первым из городов провинции, а двор первенствовал над городом, ныне весь Париж — двор, а вся провинция — город. Как бы блистательна, как бы прекрасна и сильна ни была при своем вступлении в жизнь девушка, родившаяся в каком-либо департаменте, но если она, подобно Дине Пьедефер, выходит замуж в провинции и там остается жить, — она вскоре делается провинциалкой. Несмотря на ее твердую решимость не поддаваться пошлости, убожество мысли, равнодушие к одежде, сорняк грубости заглушают священный огонек, теплящийся в этой свежей душе, и все кончено: прекрасное растение гибнет. И как может быть иначе? В провинции молодая девушка с самого раннего возраста видит вокруг себя только провинциалов; других, получше, взять неоткуда, выбирать приходится среди одних посредственностей; провинциальные отцы выдают своих дочерей только за провинциальных холостяков; никому не приходит в голову скрещивать породы, ум неизбежно вырождается, и во множестве городов способность мыслить уже сделалась настолько же редкой, насколько там дурна кровь. Человек хиреет там душою и телом, так как гибельный имущественный расчет господствует над всеми другими условиями брака. Люди талантливые, артисты, люди выдающиеся — всякая птица с яркими перьями улетает в Париж. Униженная, как женщина вообще, провинциалка унижена еще и в своем муже. Попробуйте-ка быть счастливой с этими двумя гнетущими мыслями! Но униженность в браке и униженность самого положения усугубляется еще третьей и страшной униженностью, которая придает образу провинциалки сухость и мрачность, умаляет, мельчит его, накладывает роковой грим. Разве тщеславию женщины не льстит больше всего уверенность, что она занимает не последнее место в жизни выдающегося мужчины, ею самой сознательно выбранного, как бы в отместку за замужество, где с ее вкусами мало посчитались? Однако, если в провинции среди женатых нет выдающихся людей, то среди холостяков их еще меньше. Таким образом, когда провинциалка совершает грехопадение, предметом ее любви всегда оказывается так называемый красавец или местный денди — молодой человек, который носит перчатки и слывет хорошим наездником; но в глубине сердца она знает, что чувства ее направлены на ничтожество, более или менее хорошо одетое. Дине эта опасность не угрожала благодаря внушенному ей представлению о ее собственном превосходстве. Если бы в первое время замужества она и не была под надежной охраной матери, присутствие которой стало для нее помехой только когда появился интерес избегнуть надзора, — все равно ее охранила бы гордость и та высота, на которую она вознесла свою жизнь. Она была польщена, увидев себя окруженной поклонниками, но возлюбленного среди них она не нашла. Ни один мужчина не соответствовал тому поэтически-идеальному образу, который она когда-то набросала вместе с Анной Гростет. Иной раз, невольно поддаваясь соблазну, пробужденному в ней поклонением мужчин, она говорила себе: «Кого же мне выбрать, если уж все равно придется уступить?» — и в мыслях отдавала предпочтение г-ну де Шаржбефу, дворянину знатного рода, внешность и манеры которого ей нравились; но холодный ум, эгоизм, честолюбие, ограниченное префектурой и выгодным браком, ее возмущали. По первому слову родных, опасавшихся, что он погубит карьеру из-за любовной связи, виконт, еще молодой супрефект, без всяких угрызений совести бросил обожаемую женщину. Наоборот, личность г-на де Кланьи, единственного, чей ум говорил уму Дины, чье честолюбие имело целью любовь и кто умел любить, в высшей степени не нравилась Дине. Когда выяснилось, что ей суждено еще шесть лет оставаться в Ла-Бодрэ, она решила принять ухаживания г-на виконта де Шаржбефа; но его назначили префектом, и он уехал из города. К большому удовольствию прокурора, новый супрефект оказался человеком женатым, и жена его стала близкой приятельницей Дины. У г-на де Кланьи оставался теперь только один соперник — г-н Гравье. Но г-н Гравье был из тех сорокалетних мужчин, ухаживание которых женщины принимают и над которыми в то же время смеются, искусно и без угрызений совести поддерживая в них надежду и дорожа ими, как мы дорожим вьючным животным. За шесть лет среди всех, кто ей был представлен, на двадцать лье кругом, Дина не нашла человека, при виде которого она ощутила бы то волнение, которое вызывается красотой, верой в счастье, соприкосновением с возвышенной душой или предчувствием любви, пусть даже несчастной.