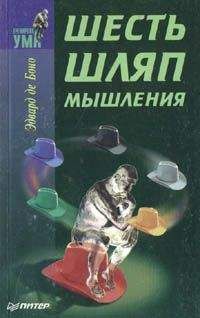Педро Аларкон - Треугольная шляпа
— Пресвятая богородица! — воскликнула наваррка, заливаясь смехом. — Видно, стул-то был сломанный…
— Что случилось? — крикнул тут дядюшка Лукас, просунув свою уродливую физиономию сквозь виноградные лозы.
Коррехидор все еще лежал на полу и с неописуемым ужасом взирал на человека, который смотрел на него как бы с облаков.
Можно было подумать, что его превосходительство — это сам дьявол, поверженный, правда, не архангелом Михаилом, а каким-то демоном из преисподней.
— Что случилось? — поспешила ответить сенья Фраскита. — Да вот сеньор коррехидор подвинул стул, покачнулся и грохнулся.
— Господи Иисусе! — воскликнул мельник. — Не ушиблись ли вы, ваше превосходительство? Может, вас растереть уксусом?
— Нет, ничего, — с трудом поднимаясь, ответил коррехидор и прибавил шепотом, но так, что сенья Фраскита его услышала:
— Ты мне за это заплатишь!
— Зато ваше превосходительство спасли мне жизнь, — сказал Дядюшка Лукас, не слезая сверху. — Представь себе, жена, залез я сюда, разглядываю гроздья и вдруг нечаянно задремал на этих тоненьких лозах и перекладинах, а ведь тут между ними такое пространство, что я вполне мог бы провалиться… Так что если бы вы, ваше превосходительство, не упали и не разбудили меня вовремя — я бы наверняка разбил себе голову об эти камни.
— Ах, вот оно что! — воскликнул коррехидор. — В таком случае, Лукас, я рад… Очень рад, что упал… А ты мне за это заплатишь! — повторил он, обращаясь к мельничихе.
Коррехидор произнес эти слова с выражением сдержанной ярости, так что сенье Фраските стало не по себе.
Она ясно видела, как сперва коррехидор испугался, решив, что мельник все слышал, но затем, уверившись в противном, ибо притворное спокойствие Лукаса могло бы обмануть человека и более проницательного, он дал волю своему гневу и начал замышлять планы мести.
— Ладно! Слезай скорей да помоги мне почистить его превосходительство! — крикнула мельничиха. — Вон он как запылился!
И пока дядюшка Лукас слезал, она успела шепнуть коррехидору, стряхивая с него пыль своим передником, правда попадая при этом больше по шее, чем по камзолу:
— Он ничего не слышал… Бедняга спал как убитый…
Не столько самые эти слова, сколько таинственность, с которой сенья Фраскита давала понять коррехидору, что она с ним в заговоре, подействовали на него умиротворяюще.
— Плутовка! Негодница! — пробормотал дон Эухенио де Суньига, пуская слюну от умиления, но все еще ворчливым тоном.
— Ваша милость продолжает на меня гневаться? — вкрадчиво спросила наваррка.
Убедившись, что суровость приносит хорошие плоды, коррехидор обратил на сенью Фраскиту сердитый взгляд, но, встретившись с ее обольстительной улыбкой и божественными очами, в которых светились мольба и ласка, мгновенно сменил гнев на милость. Шамкая и присвистывая, обнаруживая при этом больше чем когда-либо полное отсутствие как передних, так и коренных зубов, он проговорил:
— Все зависит от тебя, любовь моя!
В этот момент сверху спустился дядюшка Лукас.
Глава XII
Десятины и примиции[17]
Как только коррехидор водворился на своем стуле, мельничиха бросила быстрый взгляд на мужа: внешне Лукас хранил обычное спокойствие, но в душе готов был лопнуть от смеха. Воспользовавшись рассеянностью дона Эухенио, сенья Фраскита обменялась с Лукасом воздушным поцелуем, а затем голосом сирены, которому позавидовала бы сама Клеопатра, произнесла:
— Теперь, ваше превосходительство, отведайте моего винограда!
Как хороша была в этот миг прекрасная наваррка (такой бы я ее и написал, если б обладал даром Тициана) — свежая, обольстительная, великолепная, в узком платье, подчеркивающем изящество ее полной фигуры; с поднятыми над головой обнаженными руками, с прозрачной кистью винограда в каждой из них, она стояла против зачарованного коррехидора, обращаясь к нему с обезоруживающей улыбкой и молящим взором, в котором проступал страх.
— Это первый виноград в нынешнем году… сеньор епископ его еще не пробовал…
Сейчас она походила на величественную Помону, подносящую плоды полевому божеству — сатиру.
В это время на краю мощеной площадки показался досточтимый епископ местной епархии в сопровождении адвоката-академика, двух каноников преклонных лет, а также своего секретаря, двух домашних священников и двух пажей.
Его преосвященство на некоторое время задержался, созерцая эту столь комическую и столь живописную сценку, и наконец сказал спокойным тоном, как обычно говорили прелаты того времени:
— Пятая заповедь гласит: платить десятины и примиции святой церкви, — так учит нас христианская религия; а вот вы, сеньор коррехидор, не довольствуетесь десятиной, но хотите поглотить еще и примиции.
— Сеньор епископ! — воскликнули мельник и мельничиха и, оставив коррехидора, поспешили подойти под благословение к прелату.
— Да вознаградит господь ваше преосвященство за ту честь, которую вы оказали нашей бедной хижине! — почтительно произнес дядюшка Лукас, первым прикладываясь к руке епископа.
— Как хорошо вы выглядите, сеньор епископ! — воскликнула Фраскита, прикладываясь к руке пастыря вслед за Лукасом. — Да благословит вас бог и да хранит он вас мне на радость, как он хранил старого епископа, хозяина Лукаса!
— Ну, тогда уж не знаю, чем я могу служить тебе, если ты сама даешь благословение, вместо того чтобы просить его у меня, — смеясь, ответил добродушный пастырь.
И, подняв два пальца, прелат благословил сенью Фраскиту, а затем и всех прочих.
— Пожалуйста, ваше преосвященство, вот примиции! — сказал коррехидор, взяв из рук мельничихи гроздь винограда и любезно поднося ее епископу. — Я еще не успел отведать…
Коррехидор произнес эти слова, бросив быстрый и дерзкий взгляд на вызывающе красивую мельничиху.
— Не оттого ли, что виноград зелен, как в басне? — заметил академик.
— Виноград в басне, — возразил епископ, — сам по себе не был зелен, сеньор лиценциат, он просто был недоступен для лисицы.
Ни тот, ни другой не имели видимого намерения задеть коррехидора, но оба замечания попали прямо в цель, точно вновь пришедшие угадали все, что тут произошло; дон Эухенио де Суньига побледнел от злости и сказал, прикладываясь к руке прелата:
— Вы, что же, считаете меня лисой, ваше преосвященство?
— Tu dixisti![18] — ответил епископ с ласковой суровостью святого, каковым, говорят, он был на самом деле. — Excusatio non petita, accusatio manifesta. Qualis vir, talis oratio. Но: satis jam dictum, nullus ultra sit sermo.[19] Что одно и то же. Однако оставим латынь и обратимся к этому превосходному винограду. — И он отщипнул… всего одну виноградинку от кисти, которую поднес ему коррехидор.
— Отменно хорош! — воскликнул епископ, разглядывая виноград на свет и тут же передавая его дальше, своему секретарю. — Как жаль, что он не идет мне впрок!
Секретарь также повертел в руках кисть, сделал жест, выражавший почтительное восхищение, и в свою очередь передал ее одному из домашних священников.
Священник повторил действия епископа и жест секретаря и даже до того увлекся, что понюхал виноград, а затем… с великой бережностью уложил его в корзину и вполголоса сообщил:
— Его преосвященство постится.
Дядюшка Лукас, следивший взором за виноградом, осторожно взял его и незаметно для окружающих съел.
После этого все уселись; поговорили о том, какая сухая стоит осень, несмотря на то, что бури осеннего равноденствия уже миновали; обсудили возможность новой войны между Австрией и Наполеоном; утвердились во мнении, что императорские войска никогда не вторгнутся в Испанию; адвокат пожаловался на смутные и тяжкие времена и позавидовал безмятежным временам отцов, подобно тому как отцы завидовали временам дедов. Попугай прокричал пять часов, и по знаку епископа младший из пажей сбегал к епископской коляске (она остановилась в том же овражке, где спрятался альгвасил) и возвратился с превосходным постным пирогом, который всего час назад был вынут из печи. На середину площадки вынесли небольшой столик, пирог разрезали на равные куски. Дядюшка Лукас и сенья Фраскита тоже получили свою долю, хотя долго отказывались принять участие в трапезе… И в течение получаса под лозами, сквозь которые пробивались последние лучи заходящего солнца, царило поистине демократическое равенство.
Глава XIII
Один другого стоит
Полтора часа спустя знатные сотрапезники уже возвращались в город.
Сеньор епископ со свитой прибыл туда ранее других, так как ехал в коляске, и направился к себе во дворец, где мы его и оставим, погруженного в вечернюю молитву.
Знаменитый адвокат (удивительно тощий) и два каноника (один другого упитаннее и величественнее) проводили коррехидора до самых дверей аюнтамьенто, где, по словам его превосходительства, ему предстояло еще потрудиться, а затем направились каждый к своему дому, руководствуясь звездами — подобно мореплавателям или двигаясь на ощупь — подобно слепым, ибо уже наступила ночь, луна еще не взошла, а городское освещение (так же, как и просвещение нашего века) все еще оставалось «в руце божией».