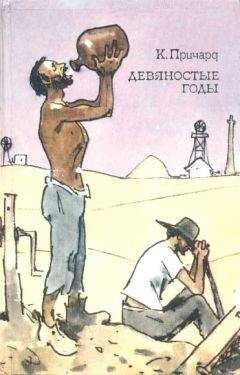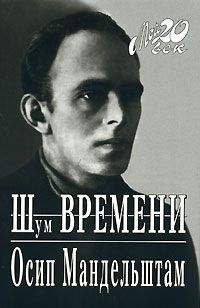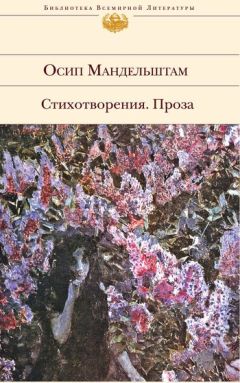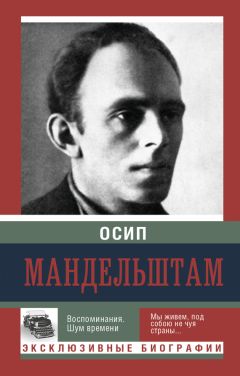Осип Мандельштам - Шум времени
Что тогда говорилось, я не помню, но зато на Моховой, в собственном амфитеатре, с удобными депутатскими местами, на манер парламента, установился довольно разработанный ритуал, и в первых числах сентября происходили праздники в честь меда и счастья образцовой школы. Неизбежно на этих собраниях, похожих на палату лордов с детьми, выступал старик, доктор-гигиенист Вирениус. Это был старик румяный, как ребенок с банки Нестле. Он произносил ежегодно одну и ту же речь: о пользе плавания: так как дело происходило осенью и до следующего плавательного сезона оставалось месяцев десять, то его маневры и демонстрации представлялись неуместными; однако, этот апостол плавания каждый год проповедовал свою религию на пороге зимы. Другой гигиенист, профессор князь Тарханов, восточный барин с ассирийской бородой, на уроках физиологии ходил от парты к парте, заставляя учеников слушать свое сердце через толстый жилет. Тикало не то сердце, не то золотые часы, но жилет был обязателен.
Амфитеатр с откидными партами, разбитый удобными дорожками на секторы, с сильным верхним светом, в большие дни брался с бою, и вся Моховая кипела, наводненная полицией и интеллигентской толпой.
Все это начало девятисотых годов.
Главным съемщиком тенишевской аудитории был Литературный Фонд, цитадель радикализма, собственник сочинений Надсона. Литературный Фонд по природе своей был поминальным учреждением: он чтил. У него был точно разработанный годичный календарь, нечто вроде святцев, праздновались дни смерти и дни рождения, если не ошибаюсь: Некрасова, Надсона, Плещеева, Гаршина, Тургенева, Гоголя, Пушкина, Апухтина, Никитина и прочих. Все эти литературные панихиды были похожи, причем в выборе читаемых произведений мало считались с авторством покойника.
Начиналось обычно с того, что старик Исай Петрович Вейнберг, настоящий козел с пледом, читал неизменное: «Бесконечной пеленою развернулось предо мною, старый друг мой, море».
Затем выходил александрийский актер Самойлов и, бия себя в грудь, истошным голосом, закатываясь от крика и переходя в зловещий шепот, читал стихотворение Никитина «Хозяин».
Дальше следовал разговор дам, приятных во всех отношениях, из «Мертвых душ»; потом «Дедушка Мазай и зайцы» – Некрасова, или «Размышления у парадного подъезда»; Ведринская щебетала: «Я пришел к тебе с приветом», а в заключенье играли похоронный марш Шопена.
Это литература. Теперь гражданские выступления. Прежде всего, заседания Юридического общества, возглавляемого Максимом Ковалевским и Петрункевичем, где с тихим шипением разливался конституционный яд. Максим Ковалевский, подавляя внушительной фигурой, проповедовал оксфордскую законность. Когда кругом снимали головы, он произнес длиннейшую ученую речь о праве перлюстрации, то есть вскрытия почтовых писем, ссылаясь на Англию, допуская, ограничивая и урезывая это право. Гражданские служения совершались М. Ковалевским, Родичевым, Николаем Федоровичем Анненским, Батюшковым и Овсянико-Куликовским.
Вот в соседстве с таким домашним форумом воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на двадцать пять человек и отнюдь не в коридорах, а в высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и попахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мучении лягушек, в научном кипячении воды, с описанием этого процесса, и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках.
От тяжелого, приторного запаха газа в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд. К концу дня, отяжелев от уроков, насыщенных разговорами и демонстрациями, мы задыхались среди стружек и опилок, не умея перепилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска ударяла по пальцам; ничего не выходило. Инструктор возился с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали ручной труд.
На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлейн: «О Tannenbaum, о Tannenbauml». Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков.
Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя: это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавшие сюда по странному капризу родителей. Некий сын камергера, Воеводский, красавец, с античным профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и заставил присягать себе, целуя крест и Евангелие.
Вот краткая портретная галерея моего класса: Ванюша Корсаков, по прозванию котлета (рыхлый земец, прическа в скобку, русская рубашечка с шелковым поясом, семейная земская традиция: Петрункевич, Родичев); Барац, – семья дружит с Стасюлевичем («Вестник Европы»), страстный минералог, нем как рыба, говорит только о кварцах и слюде; Леонид Зарубин, – крупная углепромышленность Донского бассейна; сначала динамо-машины и аккумуляторы, потом – только Вагнер; Пржесецкий – из бедной шляхты, специалист по плевкам. Первый ученик Слободзинский – человек из сожженной Гоголем второй части «Мертвых душ», положительный тип русского интеллигента, умеренный мистик, правдолюбец, хороший математик и начетчик по Достоевскому; потом заведовал радиостанцией. Надеждин – разночинец: кислый запах квартиры маленького чиновника, веселье и беспечность, потому что нечего терять. Близнецы – братья Крупенские, бессарабские помещики, знатоки вина и евреев. И, наконец, Борис Синани, человек того поколения, которое действует сейчас, созревший для больших событий и исторической работы. Умер, едва окончив. А как бы он вынырнул в годы Революции!
Вот и теперь еще разные старые дамы и хорошие провинциалы, желая похвалить кого-нибудь, говорят: «светлая личность», а я понимаю, что они хотят сказать. Это про нашего Острогорского иначе нельзя сказать, как на языке того времени, и старомодная напыщенность этого нелепого выражения уже не кажется смешной. Только первые годы столетия мелькали фалды Острогорского по коридорам Тенишевского училища. Он был близорук, щурился, излучая глазами насмешливый свет, – весь большая обезьяна во фраке, золотушный, с золотисто-рыжей бородой и волосами. Я уверен, что у него была именно чеховская невообразимая улыбка. Он не привился в двадцатом веке, хотя и хотел в него попасть. Он любил Блока (а в какую рань!) и печатал его в своем «Образовании».
Он был никакой администратор, только щурился и улыбался и был очень рассеян; поговорить с ним удавалось редко. Всегда он отшучивался, даже там, где не нужно. «Какой у вас урок?» – «Геология». – «Сам ты геология». Все училище, со всеми своими гуманистическими турусами на колесах, держалось его улыбкой.
А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых.
Сергей Иваныч
Тысяча девятьсот пятый год – химера русской революции с жандармскими рысьими глазками и в голубом студенческом блине! Уже издалека петербуржцы тебя чуяли, улавливали цоканье твоих коней и ежились от твоих сквозняков в проспиртованных аудиториях военно-медиционкой или в длиннейшем «jeu de paume» меньшиковского университета, когда рявкнет, бывало, как рассерженный лев, будущий оратор армянин на тщедушного с.-р. или с.-д. и вытянут птичьи шеи те, кому слушать надлежит. Память любит ловить во тьме, и в самой гуще мрака ты родился, миг, когда – раз, два, три – моргнул Невский длинными электрическими ресницами, погрузился в кромешную ночь, и в самом конце перспективы из густого косматого мрака показалась химера с рысьими жандармскими глазками, в приплюснутой студенческой фуражке.
Для меня девятьсот пятый год в Сергее Иваныче. Много их было, репетиторов революции! Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил: «Есть люди-книги и люди-газеты». Бедный Сергей Иваныч остался бы непричем при такой разбивке, для него пришлось бы создать третий раздел: есть люди-подстрочники. Подстрочники революции сыпались из него, шелестели папиросной бумагой в простуженной его голове, он вытряхивал эфирно-легкую нелегальщину из обшлагов кавалерийской своей, цвета морской воды, тужурки, и запрещенным дымком курилась его папироса, словно гильза ее была свернута из нелегальной бумаги.
Я не знаю, где и как Сергей Иваныч усваивал. Эта сторона его жизни для меня по молодости лет была закрыта. Но однажды он затащил меня к себе, и я увидел его рабочий кабинет, его спальню и лабораторию.
Об эту пору мы с ним делали большую и величаво бесплодную работу: писали реферат о причинах падения римской империи. Сергей Иваныч залпами в одну неделю надиктовал мне сто тридцать пять страниц убористой тетрадки. Он не задумывался, не справлялся с источниками, он выпрядал как паук – из дымка папиросы, что ли – липкую пряжу научной фразеологии, раскидывая периоды и завязывая узелки социальных и экономических моментов. Он был клиентом нашего дома, как и многих других. Не так ли римляне нанимали рабов греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? В разгаре означенной работы Сергей Иваныч привел меня к себе. Он проживал в сотых номерах Невского, за Николаевским вокзалом, где, откинув всякое щегольство, все дома, как кошки, серы. Я содрогнулся от густого и едкого запаха жилища Сергея Иваныча. Комната, надышанная и накуренная годами, вмещала в себе уже не воздух, а какое-то новое неизвестное вещество, с другим удельным весом и химическими свойствами. И невольно пришла мне на память неаполитанская собачья пещера из физики. За все время, что он здесь жил, хозяин, очевидно, ничего не поднял и не переставил, как истинный дервиш относясь к расположению вещей, сбрасывая на пол навеки то, что ему казалось ненужным. Дома Сергей Иваныч признавал лишь лежачее положение. Покуда Сергей Иваныч диктовал, я косился на каменноугольное его белье; как же я удивился, когда Сергей Иваныч объявил перерыв и сварил два стакана великолепнейшего густого и ароматного шоколада. Оказалось, у него страсть к шоколаду. Варил он его мастерски и гораздо крепче, чем это принято. Какой отсюда вывод? Был ли Сергей Иваныч сибарит или шоколадный бес завелся при нем, прилепившись к аскету и нигилисту? О, мрачный авторитет Сергея Иваныча, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна! Его походка напоминала походку человека, которого только что схватили и ведут за плечо перед лицо грозного сатрапа, а он старается делать равнодушный вид. Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и нисколько их не боялся.