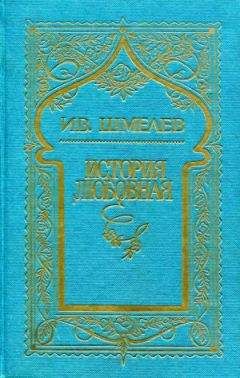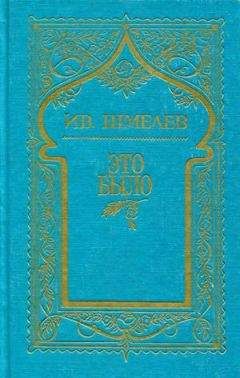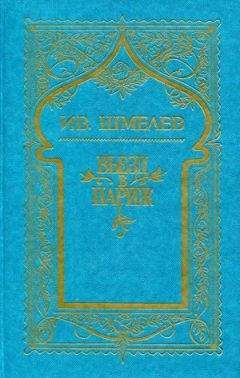Иван Шмелев - История любовная
– Недурна девчонка! Только не советую тебе, рано. Лучше занимайся гимнастикой. Впрочем, она для тебя… богиня, не опасно.
Мне стало стыдно, что я написал стишки, и я сказал, стараясь прикрыть смущение:
– Да, я признаю только идеальную любовь!
– А если она вдруг сама придет к тебе ночью, с распущенными волосами?…
– Как же она… может ко мне прийти?! – изумился я искренно и тут же вспомнил, – «а она ведь ко мне входила, когда принесла подснежники!» – Неужели сама женщина… может прийти к мужчине?! Это же неприлично… – ужаснулся я, сознавая, как мне приятно, что Паша ко мне входила.
– Это бывает часто, потому что… физи-оло-гия! – сказал Женька уверенно. – Когда мужчина нравится женщине… Со мной раз было, когда гостил на даче у Соколова… гм!… Там была одна дама… очень эффектная…
– Да?!. – задохнулся я от волнения, – что же было?…
– Что… Понятно, пал!… – небрежно ответил он, отводя глаза.
– Ты… пал?! – ужаснулся я, чувствуя жгучее любопытство услышать все. – Но ты же мне не рассказывал… Неужели ты…?
– Об этом не говорят. Лучше заниматься гимнастикой. Он проделал несколько упражнений.
– Кровь приливает, отливает… В «Гигиене для молодых людей» про все есть. Я тебе притащу.
– Но почему же она, по-твоему, гетера? Она же терзалась от любви, а гетеры… только для услады пиров! – продолжал я волнующий разговор.
– Знаешь ты гетер! – усмехнулся Женька. – Вот тебе Клеопатра… или Аспазия… За одну ночь наслаждений они требовали платы… жизнью! – сказал он мрачно и пообещал притащить «про гетер» особенную редкую книгу. – Македонов сейчас читает! – И ты… уже пал?! – пробовал я дознаться.
– Не стоит… – уклончиво сказал он, – это одна из рискованных страниц моей жизни. Я находился на краю пропасти!…
– Но, Женька… Но мы же заключили…
– Она уже умерла… – сказал он глухо. – Не будем тревожить воспоминания.
Мы помолчали в трескучем щебете воробьев.
– Значит, не пойдем сегодня на «Воробьевку»?
– Сегодня не придется… – озабоченно сказал он, и его тощее, угловатое лицо стало строгим, как на геометрии у доски. – Свиданье у меня, с одной особой…
– У тебя свиданье?! – воскликнул я.
– Ну да… с одной особой! Что же тут удивительного?!. В его тоне слышалось торжество, и меня уколола ревность.
– С какой… особой? – спросил я его с укором.
– Разумеется, с женщиной!
– С… женщиной?! – повторил я звучное это слово, какое-то странно-новое. – У тебя… с женщиной…?!
Это слово звучало во мне соблазном, нежностью Зинаиды, лаской. Вспомнилось – «Мика, Мика!…» – «ах, как бы я вас расцеловала, ми-лый!».
– Ну… может быть, я влюбился… – нерешительно выговорил Женька, словно и его смутило, и его тонкий и длинный нос – признак мужества, по его словам, – вытянулся еще больше.
– Ты врешь, Женька?… – недоверчиво сказал я.
– Что же, по-твоему… не могу я влюбиться?
– Ты… влюбился?! – воскликнул я, только сейчас заметив, что его хохолок в помаде, и стало ясно, что Женька действительно влюбился.
И меня охватило радостью, родившеюся во мне сегодня: да ведь и я влюбился! Эта радость сияла на синем небе, на подоконнике, в хрустале, на весенних подснежниках, в радужном озарении на книге. Звенела во мне: влюбился!…
– В кого… Женька?
– Ты ее не знаешь… – мечтательно сказал он в окно. – Скоро притащу карточку, увидишь!
– Но как же теперь… что же ты будешь делать?…
– Что делать… – как будто смутился Женька, – ухаживать! Будем прогуливаться, сближаться… как всегда делается! Сперва – общие разговоры, чтобы узнать друг друга, а потом… как-то получится! Жениться, понятно, я не буду, связывать себя! Македонов говорит – смелей! Написал письмо. С женщинами надо решительно…
И он взглянул на меня, словно искал поддержки.
– Женька, милый… – предостерег я его, – а если из гимназии выгонят? Помнишь, в прошлом году… Я напомнил про пятиклассника Смирнова, как мать одной гимназистки показала инспектору записку, и Смирнова посадили на воскресенье. Но Смирнов был любимчик, а Женьку выгонят!
– Плевать, в юнкерское уеду. Моя не гимназистка, и я брюнет. Брюнеты всегда раньше…
– Она… не гимназистка?! Кто же она?…
– Она… акушерка! – сказал он важно.
– Акушерка?! – воскликнул я.
Это меня страшно поразило: акушерка! У нас была знакомая акушерка, стриженая, вертлявая старушка с саквояжем, пропахнувшая насквозь карболкой. Она закидывала ногу за ногу, сосала тонкие папироски и все черкалась, и у нас в доме говорили, что все эти акушерки – «сущие-то оторвы».
– Ну да, акушерка… – нерешительно сказал Женька – Но… они же по таким делам! – объяснил я в смущении, представляя себе старушку, – и воняют всегда карболкой!…
– Ну что ты понимаешь! – сказал Женька презрительно. – Моя, во-первых, самая настоящая бельфам и пахнет ландышами! Роскошная ж-женщина… – проговорил он бесстыжим тоном и потянулся в неге, и мне мелькнуло, что он хочет предаться изнеживающим наслаждениям, как Ганнибал в Италии. – Прямо, моя мечта!…
– Значит, она… красивая? – расспрашивал я смущенно, уже завидуя.
– Краса-вица, как античная Венера… все формы, поражающие глаза, дивные волосы… самая настоящая бельфам! Раз уже провожал! Поговорили, вообще… о развитии…! Очень интересовалась моим развитием, советовала прочитать этого… как его?… – Шпильгагена! Взял вчера «Один в поле не воин», – чушь. Скажу, что читал.
– Хорошо, но как же ты так… Как же вы познакомились? Ведь стыдно как-то…
– Чепуха. Сначала переглядывались, потом проводил от всенощной до крыльца и прямо отрекомендовался: «позвольте с вами познакомиться!» Вот и все.
– Так, сразу?! А она…?
– Сразу обернулась и… Женщины любят, когда решительно. Немножко удивилась… «Ах, это вы? Как вы меня испугали!» Вот ей – Богу! И засмеялась… Поражающие глаза!
– Так просто, сразу?! – не верил я.
– С акушерками всегда легко себя чувствуешь! – хвастливо говорил Женька, примасливая хохол и вытирая руку о коленку. – Македонов говорит… все акушерки очень легко смотрят на физиологические сношения, для них естественно! Прошлись к Нескучному, поговорили про Шпильгагена… Оказалась ужасно развитая, массу читала.
– Она… очень молодая? – спрашивал я, не веря.
– Двадцать лет так… Недавно только акушерские курсы кончила. Уж не девица, видно!
– Почему видно?
– Сразу видно! По глазам. Сразу дала понять, глазами. – Как, глазами?!. – выпытывал я смущенно.
– Да это же сразу видно! Если движения такие… ну, как бельфам, и формы… Без ошибки могу узнать.
– А как же у вас… дальше?
– Дальше… увлекать надо! Попросил карточку и локон, обещала притащить. Синеватое пенсне носит, для красоты!
– Неужели и локон даже, так сразу?! Этого не бывает никогда, чтобы сразу…
– Зависит, как приступить! Надо знать психологию. Женщины любят, когда настойчиво! Наполеон всегда говорил: «Идешь к женщине – бери хлыст и розу!»
– Но ты же сам говорил, что Наполеон относился с презрением?…
– Это-то и выходит – презрение! Смотрел, как на… красивое мясо! Хлыст!… И я ей прямо: «Влюблен безумно и хочу ваш локон!» Сразу и пошло. Пожал руку – даже затрясла.
– Ты ей… неужели по-английски?!. – поразился я.
– Понятно, мертвой хваткой! Вот так…
Он так мне стиснул, что я зашипел от боли.
– Так и просияла! Женщины любят в мужчине силу. И сказала: «Боже, какой вы сильный!» Ясно, физиология… А когда попросил локон… – чудесные волосы, как шелк!… – так взглянула необыкновенно…! Сказала: «Боже, какой же вы романтист!»
– Такого слова нет «романтист!» Романист?
– Отлично помню, что «романтист!» Романист – это который романы пишет, а…
– Надо сказать – романтик! А не романтист!… Не понимаю, какое у ней развитие, если… романтист?!.
– А – гимна-зист?! Можно как угодно… Главное, замечательно красива, и все движения… Здорово в нее врезался!… Македонов говорит… пожалуй, клюнет! Пожалуй, может начаться… связь!… – шепотом сказал Женька, вытаращил глаза, и меня охватило жутью.
– Значит, ты будешь, Женька… семейной жизнью, с ней!… – спросил я его, жалея и стараясь себе представить, как это может выйти. – Переедешь к ней? Мать, пожалуй, не согласится…
– Не семейная жизнь, а просто… связь! – посмотрел он на потолок растерянно, и мне показалось, что он боится. – Немножко жутковато, как это может получиться… А Македош-ка говорит – пустяки! Главное, не робей! Ну… все равно. Ничего не поделаешь…
Он прошелся по комнате, в волнении потирая руки, задумчиво посмотрел в окно, на воробьев, прыгавших и оравших в тополе, и, что-то решив, сказал: