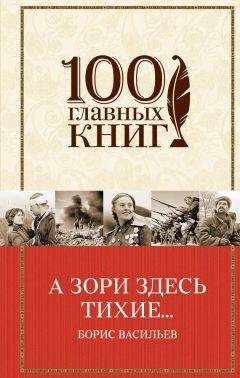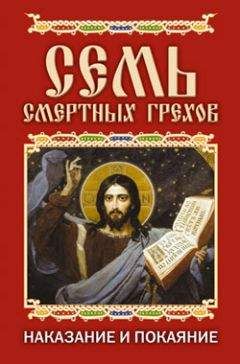Борис Васильев - Красные Жемчуга
Но тут приехал «сам». Один: гость задерживался на работе, и за ним еще предстояло вернуться. Эдуард Леонтьевич был очень возбужден, непривычно суетлив и озабочен, что не помешало ему, однако, ворваться в кухню весьма агрессивно:
— А рацион? Режим? Откорм? Ты что, мамаша, стронулась-сдвинулась? Почему все бросила, на кого? Подумаешь, голова у нее кружится! У всех голова кружится, а мы, между прочим, работаем. И себя не щадим. Завтра же порошки получишь, и давай к свинкам. К свинкам, мамаша, к свинкам, не срывай мне процесс. Я, понимаешь, посильно помогаю выполнять Продовольственную программу, а ты дезертируешь с трудового фронта. Немедленно назад, поняла? Светлана, добудь все лекарства, проконсультируйся, с кем требуется, — и на вокзал. На вокзал, мамаша, на вокзал без промедлений и задержек. Животину, понимаешь, любить надо не на словах, а на деле. Так что в декабре, мамаша, увидимся, а поужинаешь сегодня одна. Ты уж не обижайся, сама понимаешь, какая у нас ситуация и какого ответственного товарища угощаем. Светлана, я вскорости заеду, чтоб готова была, как штык, понимаешь. А еще лучше, если к подъезду спустишься, чтоб такси зря не стояло. Лады?
Ринулся к дверям, а старуха — возьми да и спроси:
— А Ларик как же теперь?
— Что? — хозяин остановился. — Я в его возрасте, знаешь, дрова на станции грузил, а он с жиру бесится. А хозяин здесь я, понятно? И пока он прощения не попросит…
— А коли в деда он? — вздохнула бабка. — Которые в деда, такие не попросят.
— Ничего, и таких заставим. Экономически прижмем, чтоб и не пикнули, поняла, старая? И все, и не встревай в наши дела!
И умчался, дверь за собою защелкнув.
— Хлопотун, — сказала старуха; тон был нейтральным: понимай как хочешь. И добавила, помолчав: — Эдуард Леонтьевич свиней колоть большой спец. Приехала бы, поглядела.
— Это в декабре? Да ты что, мам, соображаешь? Последний месяц: творческие отчеты, научные дискуссии, встречи по интересам. Это же все организовать требуется, провести на должном уровне, а кто проведет? Светочка проведет: кого упросит, кого умаслит, а перед кем и глазками поиграет. Действует! Сразу: «Светочка, Светочка!..»
Светлана гордо посмеялась, тряхнув в меру подкрашенными, в меру подвитыми волосами, до сей поры еще пышными и красивыми. А старуха глянула удивленно:
— Это, стало быть, ты у них — Светочка? Бабе к полста годам, а все — будто девчонка. Так вот и кличут — Светкой?
— Светочкой, а не Светкой, — несокрушимо улыбаясь, поправила дочь. — А возраст для настоящей женщины — миллион загадок. Я такое наобещать могу, что никакой девчонке и в голову не придет, а ученые, мам, они все дураки страшные в этом смысле. Вот мой Эдуард, к примеру, мужик! Его на глазках не проведешь, он всякой бабе цену знает. А профессора всякие… — она весело расхохоталась. — Лопухи. Уши развесят, губы распустят, и делай с ними, что требуется по обстоятельствам.
— А что требуется? — спросила старуха с некоторым стеснением.
— Да не то, что у вас там на сеновале, не то! Я своему не изменяла и не изменяю, надо очень. А если ученый, допустим, из Норвегии приехал, должна я его уломать перед коллегами с отчетом о поездке выступить? Обязана, мне за это деньги платят, а как я это проверну — моя забота. Служба у меня такая, мама.
— А чего о тебе думают? — вздохнула старуха.
— А что обо всех женщинах, то и обо мне. Обо мне даже лучше, потому что я со всеми кокетничаю и на виду, не то что некоторые.
— Светочкой, значит, зовут, — зачем-то еще раз уточнила старуха и вздохнула. — А мне твой отец и братья часто снятся. Будто, значит, сидят они и молчат, а глаз у них нету.
— Мистика это, мама, — дочь тоже вздохнула. — А прошлого Девятого мая… Нет, седьмого, на вечере Дня Победы, обо мне директор нашего Дома медиков говорил. Что я — солдатская дочь и солдатская сестра, и потому я так ответственно отношусь к своим обязанностям.
— О тебе, значит, говорили? Это хорошо. А об отце, о братьях твоих Грише да Шурке?
— Ну откуда кто о них знает? Это я в своей автобиографии всегда пишу, что солдатская дочь, что потеряла на фронте отца и обоих братьев.
Продолжая без умолку болтать, Светлана сосредоточенно, без спешки и суеты занималась собой. Оделась, сама себе со вкусом и любовью сделала эффектную и очень к лицу прическу, умело наложила тон, подвела глаза, подкрасила реснички и губы. Посмотрелась в зеркало, что-то подправила, победно глянула на мать.
— Ну, как я тебе нравлюсь?
— Красивая ты баба, — с гордостью за нее улыбнулась старуха.
— Баба! — недовольно фыркнула дочь. — Скажешь тоже. Не баба, а цветущая женщина. Бабы — это которые навоз вилами ворочают, а женщина — высшее творение природы, как у нас один профессор говорит. Вы, говорит, Светочка, венец природы, высшее ее творение. Чудак!
— Почему же чудак? Это ведь ты — чудак, — тихо сказала старуха, ощутив вдруг ранящую обиду за дочь, которой смеялись в глаза, а она этого не желала понимать. — Какой уж там венец, когда ты под ним свое двадцать пять годков тому назад отстояла.
— Темнота! — дочь расхохоталась скорее нервно, чем звонко, глянула на часы и заторопилась, хотя торопиться было еще рано. — Ларика чаем угостишь, там еще торт остался и конфеты. Новую коробку не открывай, она для другого предназначена.
— А коли он голодный?
— Сам отыщет, что надо, не маленький. Я же тебе не о еде объясняю, а об угощении, а это две большие разницы, как в Одессе говорят. Ну все, кажется. Все. Побежала я. — Надела шубку, остановилась в дверях, сказала не глядя: — Смотри, чтоб Ларик не позже одиннадцати ушел, ладно? А то, не дай бог, с отцом столкнется — достанется тогда нам с тобой.
— За что? — с хитроватой наивностью спросила старуха, хотя сама отлично знала, за что именно им достанется от хозяина.
— Ладно тебе, — хмуро сказала Светлана: ей не понравилась лукавая материнская наивность. — Чтоб не позже одиннадцати исчез: мой особо горласт с выпивки-то, поняла? Ну, тогда поцеловались.
Махнула рукой и вышла, так и не поцеловав мать, которая уже с готовностью двинулась было к ней. Дверь захлопнулась перед самым носом, старуха остановилась, вздохнула невесело и поплелась на кухню.
Она оказалась одна в квартире, где ей никогда одной оставаться не случалось и где она, кроме кухни, ничего толком не видела. Ни спальни дочери с зятем, ни комнаты Ларика, да и в большую-то — то ли гостиную, то ли столовую — она всегда заглядывала мельком, наспех, стесняясь Светланы, а особенно «самого», хоть ей и случалось ночевать там на диване при ежегодных рыночных распродажах. Ей совсем не чуждо было нормальное женское любопытство; наоборот, ей очень хотелось не только все увидеть, но и все детально рассмотреть, подержать в руках, потрогать и пощупать. Однако природная скромность и чувство постоянной внутренней оглядки на зятя не позволили ей делать этого без хозяев, и старуха терпеливо сидела на кухне, хотя ей очень хотелось пройтись — просто хотя бы пройтись! — по всей дочкиной квартире. «Нет, не отвыкла Светлана от нас, — думала она о дочери. — Не отвыкла, а отрубилась. А отрубленная ветка коли уж и зацветет, так ни плодов не даст, ни корней не пустит. Вот и выходит, что дочь моя — ни в деревне овца, ни в городе коза, как отец ее говорил. Обсевок людской. Родная дочь, а — обсевок, вон оно, значит, как получается, когда без веры, без истины в себе человек жить начинает».
Думала старуха о судьбе дочери горько, но спокойно, уже как бы признав саму справедливость такой судьбы, как бы приладившись к ней. Однако тревога все же копошилась в глубине ее существа, потому что утонула она в своих невеселых раздумьях и не расслышала, как повернулся в дверях ключ, как приоткрылись эти двери. А вынырнула из мыслей своих, услышав:
— Бабуля?..
Опомниться не успела, как взлетела в воздух, оказавшись в объятьях, как чмокнули ее звонко в обе пергаментные щеки, как захохотали вдруг весело, громко и искренне. От души.
— Бабуля приехала! Бабуин мой! Баобаб! Бабуля-барабуля!
— Ларик… Внучек.
Заплакала старуха. Потекли слезы по загрубелым, как шрамы, морщинам, но то были добрые слезы, и морщины смягчились, растягиваясь в улыбку:
— Внучек…
— Я, бабуин. Предков нет?
— Чего?
— Тихо, сейчас будет тебе сюрприз. Приготовились? — прошел к дверям, маня за собою старуху, взялся за ручку. — Раз, два… Три!
И распахнул дверь. А в проеме ее, как в раме, оказалась худенькая, очень стройная девушка с разбросанными по плечам длинными волосами. Девушка улыбнулась старухе, а старуха, сразу все припомнив и все поняв, улыбнулась в ответ. И сказала:
— Ну проходи, что же ты? Через порог не знакомятся. Девушка шагнула в прихожую, прикрыв за собою дверь.
Ларик обнял ее, прижал к себе, сказал каким-то совсем особым, чуть вздрогнувшим голосом:
— Знакомься, бабуля. Это Дашка моя.
И старуха сразу вспомнила, сразу узнала этот приглушенный, особый, как бы чуть споткнувшийся голос: и ей когда-то доводилось слышать его, как и всякой женщине, если повезло той женщине с любовью. И поэтому бабуля-барабуля, улыбнувшись еще мягче и теплее, сказала тем не менее ворчливо: