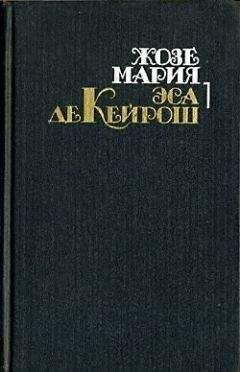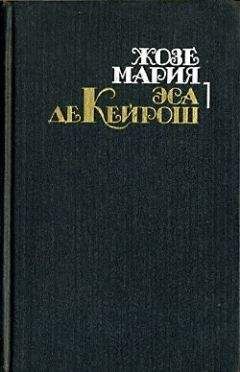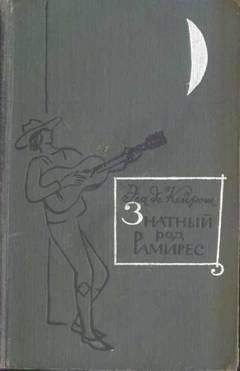Жозе Эса де Кейрош - Новеллы
Сидя рядом с Улиссом, Калипсо тихонько вздохнула и заговорила с улыбкой:
— О благородный Улисс, у меня нет сомнений, что ты уедешь. Тобою руководит желание вновь увидеть твою Пенелопу и нежно любимого Телемака, которого ты оставил на руках у кормилицы, когда Европа пошла на Азию, и который теперь, должно быть, сжимает в своей руке устрашающее копье. Ведь старая любовь, у которой глубокие корни, всегда цветет цветом тоски. Но скажи! Если бы в Итаке не ждала тебя твоя супруга, которая днем ткет, а ночью распускает сотканный хитон, и не тосковал по тебе твой сын, устремив неустанный взгляд на море, покинул бы ты, о самый хитроумный из мужей, мир и покой этого острова, его изобилие и неземную красоту?
Улисс, воздев свою мужественную руку, как это он делал на ассамблеях царей у стен Трои, когда старался, чтоб его правота проникла в людские души, сказал:
— О богиня, не будь в обиде на то, что я скажу! Даже если бы не существовали милые моему сердцу Пенелопа и Телемак и у меня не было бы царства, я все равно радостно бросился бы, не боясь гнева богов, навстречу опасности, которая подстерегает меня на море! Потому что, если правду говорить, о прославленная богиня, мое сердце пресытилось всем этим, для него мир, покой и неземная красота невыносимы. Ну подумай только, Калипсо, за восемь лет, что я здесь, я ни разу не видел, как желтеют листья на деревьях, и уж тем более, как они опадают. Ни разу это сверкающее чистое небо не затянули темные тучи, ни разу я не испытал удовольствия согреть озябшие руки у огня и не услышал, как в горах бушует буря. Все эти великолепные цветы на тонких длинных стеблях такие же, как восемь лет назад, когда ты в мое первое утро на острове показывала мне эти вечные луга. Больше того, я возненавидел лилии, и меня печалит их неизменная белизна! Я отворачиваюсь, чтобы не видеть, как стараются не видеть черных гарпий, от этих ласточек, бесконечные и однообразные полеты которых мне наскучили. Сколько раз я укрывался в глубине твоего грота, чтобы не слышать этого нежно-назойливого журчания всегда прозрачных ручьев. Подумай, Калипсо, ведь на твоем острове нет ни болота, ни гниющего пня, нет падали, над которой кружились бы мухи. О Калипсо, восемь лет, восемь ужасных лет я лишен был труда, мужества, борьбы и страданий… Не гневайся, богиня! Но я мечтаю увидеть согнувшегося под тяжкой ношей человека, волов, тянущих плуг, поспоривших на мосту мужей, молящие о милосердии руки матери, охваченной горем, хромого нищего с палкой, просящего подаяния у городских ворот… Нет, не могу я более выносить этот безмятежный покой! Я горю желанием разбить, запачкать грязью, заставить гнить все вокруг. О бессмертная Калипсо, я мечтаю о смерти!
Недвижно, с недвижно лежащими на коленях руками, прикрытыми шафранной вуалью, слушала богиня жалобы пленного героя, улыбаясь своей безмятежной, божественной улыбкой… А тем временем на холме появились нимфы, прислужницы Калипсо; они шли, придерживая округлыми руками стоящие на головах сосуды с вином и неся кожаные мешки с провиантом, который досточтимый стольник приказал доставить на плот. Молча положил Улисс на высокий край плота доску. Когда же легкие нимфы, звеня золотыми браслетами на белых щиколотках, пошли по ней, сердце Улисса, который внимательно считал бурдюки и мешки, радостно забилось, видя изобилие. После того как все мешки и бурдюки были привязаны к плоту, нимфы сели на песчаном берегу вкруг Калипсо, страстно желая увидеть расставание и искусство героя держаться на хребте волны… Но вдруг гнев вспыхнул в широко раскрытых глазах Улисса. Скрестив сильные руки на груди, он зло молвил:
— О Калипсо, вправду ли ты считаешь, что на моем плоту все в избытке и я могу поднять парус и выйти в море? Где же твои богатые дары, которые я должен увезти с собой? Восемь лет, восемь тяжких лет я был достойным гостем твоего острова, твоего грота, твоего ложа… Разве не всегда бессмертные боги в час прощания одаривают по заслугам своих гостей? Где же твои щедрые дары, о Калипсо, те, что мне полагаются по законам земли и неба?
Богиня улыбнулась, величественно спокойная, и тихо произнесла то, что легкий ветерок тут же унес на своих крыльях:
— О Улисс, ты действительно самый корыстолюбивый среди смертных и самый недоверчивый, если думаешь, что богиня оставит своего возлюбленного без подарков. Успокойся, хитроумный герой… Богатые дары мои щедры и великолепны.
И вправду, по склону холма друг за другом шли нимфы, легкими шагами, в развевающихся одеждах, неся в руках драгоценные камни, которые сверкали на солнце. Улисс пожирал глазами их блеск, протягивая к ним руки… А когда нимфы стали подниматься на плот по скрипящей доске, он принялся считать, оценивая все: скамеечки из слоновой кости, расшитые ткани, бронзовые резные сосуды, щиты, инкрустированные драгоценными камнями.
Золотой сосуд, который несла на плече последняя нимфа, был так красив, что Улисс остановил ее, взял сосуд в руки, прикинул вес и, внимательно осмотрев, звонко засмеялся и гордо крикнул:
— Действительно, это чистое золото!
Как только все драгоценности были сложены на плоту и крепко-накрепко привязаны к широкой скамье, беспокойный Улисс, схватив топор, разрубил веревку, которой плот был привязан к стволу дуба, и прыгнул на его высокий борт, возле коего пенилось море. И только тогда вспомнил он, что не поцеловал на прощанье достойную и прекрасную Калипсо! Быстро скинув плащ, он кинулся в пенившиеся воды, побежал по песчаному берегу и запечатлел поцелуй на священном челе богини. Она легонько тронула его крепкое плечо:
— О, сколько бед тебя ожидает, несчастный! Остался бы у меня на моем острове бессмертия в моих совершенных объятиях…
Улисс отступил с громким воплем:
— О богиня, твое совершенство — самое непоправимое и высшее зло!
И, преодолев волну, бросился к спасительному плоту, быстро вскарабкался на него, распустил парус и, рассекая море, двинулся навстречу трудным трудовым будням, бурям, опасностям, нищете, навстречу радости, которую получают от того, что в мире несовершенно.
ТРОГАТЕЛЬНОЕ ЧУДО[35]
В те времена Иисус еще не ушел из Галилеи, с приветных, светлых берегов моря Тивериадского, но слухи о его чудесах уже дошли до Эн-Ганнима, богатого города с широкими крепостными стенами, расположенного среди виноградников и оливковых рощ, в земле Иссахаровой.
Однажды вечером какой-то человек с яркими, горящими глазами прошел по прохладной долине и объявил, что новый Пророк, прекрасный собою Учитель ходит по полям и селениям Галилейским, предвозвещает приближение Царства небесного и исцеляет всякую болезнь в людях. Отдыхая у Садового Источника, он рассказал еще, что по дороге в Магдалу Учитель очистил от проказы слугу римского сотника, простерши над ним руки свои, и что на следующее утро, переправившись в лодке на берега страны Гергесинской, где началась уборка урожая бальзама, он воскресил дочь законоучителя Иаира, начальника синагоги. И так как пораженные земледельцы, пастухи и смуглые женщины с кувшинами на плечах, собравшись вокруг него, принялись расспрашивать, воистину ли это Иудейский Мессия, и сверкал ли над ним огненный меч, и сопровождали ли его, подобно теням двух башен, тени Гога и Магога, то этот человек, даже не напившись холодной воды, какую пил Иисус Навин, взяв посох, тряхнул головой и задумчиво отошел к акведуку; чаща цветущего миндаля тотчас поглотила его. Но надежда, отрадная, как роса в те месяцы, когда трещат цикады, оживила простые души: тотчас же на всей зеленой равнине, простирающейся до Аскалона, плуг, казалось, стал глубже взрыхлять землю, легче стало ворочать камень в давильне; дети, собиравшие букеты анемонов, поджидали на дорогах, не появится ли свет из-за угла стены или из-за сикоморы; сидевшие на каменных скамьях у городских ворот старики, перебирая пальцами бороды, уже не толковали с уверенностью мудрецов древние заветы.
Надобно сказать, что в ту пору жил в Эн-Ганниме пожилой человек по имени Овед, происходивший из рода старейшин самарийских, совершавших жертвоприношения на горе Гевал; ему принадлежали отборные стада и отборные виноградники, и сердце его было столь же преисполнено тщеславия, сколь его житницы — зерна. Но сухой и горячий, губящий все на своем пути ветер, который, по повелению Господню, дует со стороны сумрачного Асора, убил самых тучных тельцов из его стад, и на откосах, где его виноградные лозы обвивали стволы вязов и тянулись вверх по красивым шпалерам, теперь остались лишь сухие корни, засохшие лозы и сморщенные листья, изъеденные ржавчиной. И Овед, присев на пороге своего дома и закрыв лицо краем одежды, посыпал главу пеплом, роптал на свою старость и бормотал жалобы на жестокость Бога.
Едва услышав разговоры о новом Учителе из Галилеи, который насыщал толпы народа, изгонял бесов, избавлял от всякого зла, Овед, человек ученый, путешествовавший по Финикии, тотчас подумал, что Иисус — это, должно быть, один из столь часто встречающихся в Палестине волхвов — таких, как Аполлоний, или равви Бен-Досса, или Симон Хитроумный. Эти люди даже ненастными ночами беседовали со звездами, которые всегда светили им и тайны которых всегда были для них открыты; с помощью одного лишь жезла прогоняют они с полей насекомых, порождаемых илистой землею Египта, удерживают в пальцах тени деревьев и в часы полуденного зноя простирают над полями эти благодатные укрытия. Иисус Галилеянин, самый молодой и, разумеется, самый сильный из них, может прекратить падеж его скота и возродить к жизни его виноградники — надо только щедро заплатить ему. И тогда Овед приказал своим слугам, чтобы они прошли по всей Галилее, нашли нового Учителя и, посулив ему денег или же дорогие подарки, привели его в Эн-Ганним, на землю Иссахарову.