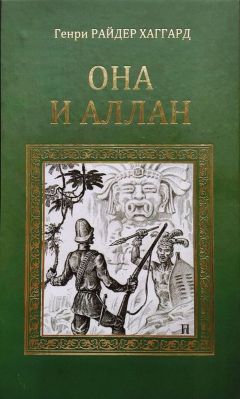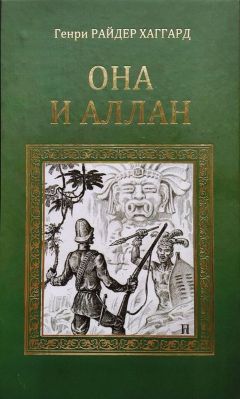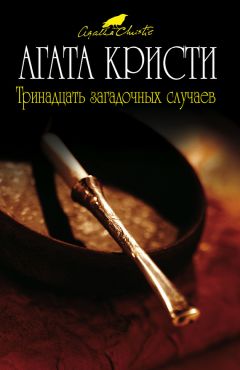Луи Селин - Путешествие на край ночи
Робинзону, конечно, первому надоела лодка. Тогда я предложил причалить к ресторану.
Теперь я могу признаться, что мы в этом ресторане заплатили так, как будто мы там не ели, а только попробовали… Лучше не говорить о том, что нам подали.
Для разнообразия я стал утверждать, что было бы полезно просто-напросто прогуляться вдоль берега пешком, по крайней мере до тех высоких трав, в километре от нас, там у завесы из тополей.
И вот мы опять идем под руку с Робинзоном, Маделон — на несколько шагов впереди. Так было удобнее продвигаться в траве. У поворота реки мы услышали гармонику. Музыка шла с баржи, с красивой баржи, стоящей здесь на якоре. Музыка остановила Робинзона. Это было понятно в его положении, и потом он всегда питал слабость к музыке. Мы были очень довольны, что для него нашлось развлечение, и расположились тут же, на газоне, менее пыльном, чем на покатом берегу рядом. Сразу было видно, что это не обыкновенная баржа. Красивая и разукрашенная для того, чтобы жить в ней, вся в цветах и даже с нарядной конурой для собаки.
Закрой глаза, ведь жизнь лишь сон…
А любовь лишь ло-о-о-о-жь.
Закрой глаза-а-а-а-а-а…
Так пели люди на барже.
Вдруг из конуры выскочила болонка, бросилась на мосток и начала лаять в нашем направлении. Мы все начали орать на болонку. Робинзон был в испуге.
Какой-то тип, видно, хозяин, вышел на палубу через маленькую дверь баржи. Он не хотел, чтобы кричали на его собаку, и мы с ним объяснились. Но когда он понял, что Робинзон, можно сказать, слепой, человек вдруг успокоился и почувствовал себя в дураках. Он перестал на нас кричать и позволил обозвать себя хамом, чтобы утихомирить нас… Он пригласил нас к себе на баржу выпить кофе, так как сегодня его именины, прибавил он. Он не хотел, чтобы мы оставались здесь на солнцепеке, и так далее, и так далее… И что это как раз было удачно, потому что их оказалось тринадцать человек за столом… Хозяин был человек молодой. Фантаст. Он любил корабли, объяснил он нам (мы сейчас же это поняли). Но его жена боялась моря, и тогда они крепко бросили якорь здесь, можно сказать, на камнях.
На барже нам как будто были рады. Во-первых, его жена, красивая особа, которая играла на гармонике, как ангел. И потом это все-таки было любезно — пригласить нас выпить кофе. Мы могли бы оказаться бог знает кем. В общем, это было доверчиво с их стороны. Мы сейчас же поняли, что надо постараться не осрамить наших милых хозяев…
У Робинзона были свои недостатки, но обычно это был парень чуткий. Нутром, по одним только голосам, он понял, что он должен себя хорошо держать и не ляпать грубости. Одеты мы были не шикарно, но чисто и прилично. Я разглядел хозяина баржи вблизи: лет тридцать, красивые каштановые, поэтические волосы и хорошенький костюмчик, вроде матросского, только нарядный. У его красивой жены были настоящие «бархатные» глаза.
Их завтрак только что кончился. Остатки были обильны. Нет, мы не отказались от пирожного. И от портвейна к нему.
Уже давно я не слышал таких аристократических голосов. У благородных людей манера говорить, которая смущает, а меня просто пугает; она особенно явственна у женщин; между тем то, что они говорят, — обыкновенные неуклюжие фразы с претензиями, но отполированные, как старинная мебель. Незначительные эти фразы отчего-то наводят страх. Страшно поскользнуться на них, когда просто только отвечаешь, и ничего больше. И даже когда они стараются взять вульгарный тон, чтобы для забавы петь песни бедных, у них остается этот аристократический акцент, который вызывает в вас подозрительность и отвращение, акцент с хлыстиком внутри, хлыстиком, всегда необходимым, чтобы говорить с прислугой. Это возбуждает, но в то же время подзадоривает залезть под юбку к их женам для того одного, чтобы полюбоваться, как тает то, что они называют чувством собственного достоинства.
Я шепотом описываю Робинзону обстановку вокруг нас: все старинная мебель. Это немножко напоминает лавку моей матери, только в более чистом виде и лучше устроено, конечно. У моей матери пахло лежалым перцем.
И потом повсюду, на всех перегородках — картины хозяина. Художник. Мне в этом призналась его жена.
Раз уж мы пришли, надо было подлаживаться под них. Холодные напитки и клубника со сливками, мое любимое сладкое. Маделон егозила, чтобы получить вторую порцию. Хорошие манеры начали овладевать и ею. Мужчины находили ее привлекательной, особенно гость. Судя по разговору, он был вдовец. К тому моменту, когда взялись за ликеры, пальма первенства; была за Маделон. Костюм Робинзона и мой устало обмякли, продравшись через столько сезонов, но здесь это, может быть, было незаметно. Все-таки я чувствовал себя несколько униженным среди всех прочих, комфортабельных, чистых, как американцы, умытых, вылощенных, в любой момент готовых к конкурсу на элегантность.
Растрепанная Маделон держала себя гораздо хуже. Ее задранный кверху носик показывал на картины, она говорила глупости. Хозяйка, чтобы отвлечь внимание, опять взялась за гармонику, и все запели; мы трое — тоже, но тихо, фальшиво и плохо, ту самую песню, которую мы раньше слышали с берега, и потом другую.
Робинзон завел разговор со старым господином, который как будто был очень осведомлен о том, как взращивают какао. Прекрасная тема.
— Когда и был в Африке, — услышал я, к моему большому удивлению, рассказ Робинзона, — когда я был инженером-агрономом общества «Дермонит», — повторял он, — я посылал все население деревни для сбора… — И так далее.
Его усадили на почетное место, в самую глубь душистого дивана; в одной руке он держал рюмку коньяку, другой он делал широкие жесты для описания величественности не прирученных еще лесов и бешенства экваториального вихря. Он так и нес, так и нес…
Вот бы Альсид посмеялся, если бы он тоже был с нами где-нибудь в уголке! Бедный Альсид!
Я тоже было собрался на радостях спеть, но передумал, вдруг полный важности, сознательности. Я нашел нужным открыть им, чтобы оправдать приглашение, от которого мне кровь в голову бросилась, что в моем лице они пригласили одного из замечательнейших докторов Парижского округа. Они, конечно, не могли этого подозревать, судя по моей одежде. Ни по скромности моих спутников. Как только они узнали, кто я, они пришли в восторг, они были польщены, каждый из них начал поверять мне мелкие недочеты своего тела; я воспользовался этим, чтобы подойти поближе к пухленькой дочке подрядчика, которая страдала крапивницей и кислой отрыжкой при каждом удобном случае.
Когда нет привычки к приятностям еды и комфорта, вы легко пьянеете от них. Правда охотно вас покидает. Вылезаешь из ежедневных унижений, стараясь, как Робинзон, очутиться на уровне богачей посредством лжи, этой монеты бедняков. Стыдишься своего не очень-то выхоленного тела, изъянов своего скелета. Я не мог решиться показать им мою правду; она была недостойна их, как мой зад. Мне надо было во что бы то ни стало произвести хорошее впечатление.
Робинзон носил темные очки, и за ними не было видно, что у него с глазами. Мы щедро объяснили его несчастье войной. И тогда уж мы совсем укрепились в нашем социальном положении, патриотически поднялись до их уровня.
Маделон в качестве невесты, может быть, играла свою роль недостаточно скромно; она возбуждала всех, женщин тоже, до такой степени, что я уж думал, что все это кончится свальным грехом. Нет! Разговор постепенно затихал, растерзанный слюнявыми усилиями пойти дальше слов. Ничего не случилось.
Гости смотрели еще друг на друга, колеблясь между неотразимым сном и приятным пищеварением.
Мы воспользовались всеобщим столбняком, чтобы смыться. Мы удалились все втроем, потихоньку, стараясь не задеть дремлющих гостей, рассыпанных вокруг гармоники хозяйки.
Мы ушли не очень далеко, только до того места, где река делает колено между двумя рядами острых тополей. Отсюда открывается вид на все ущелье, и даже вдали на дне его виден городок, скученный вокруг колокольни, как гвоздь, вбитый в красное небо.
— Когда у нас обратный поезд? — сразу заволновалась Маделон.
— Все будет в порядке, — успокоил ее Робинзон. — Они нас отвезут на машине, это условлено… Хозяин сказал — у них есть машина…
Маделон не стала настаивать. Она была задумчива от удовольствия. Настоящий, прекрасный день.
— Твоим глазам лучше, Леон? — спросила она его.
— Гораздо лучше. Я не хотел тебе говорить, я еще не был уверен, но думается мне, что в особенности левым глазом я мог даже сосчитать, сколько бутылок на столе… Я порядочно выпил, ты заметила? Ну и вино!
— Левый, со стороны сердца, — заметила Маделон радостно. Она была ужасно довольна (это понятно) тем, что его глазам лучше. — Тогда поцелуемся, — предложила она.
Я начал чувствовать себя лишним при таких нежностях. Мне было трудно уйти; я не знал, в какую сторону надо идти. Я сделал вид, что пошел оправиться за дерево подальше, и остался там, выжидая, чтобы они унялись.