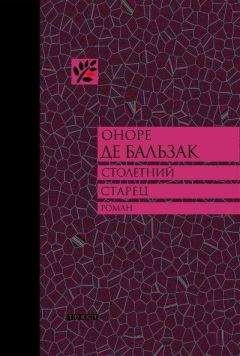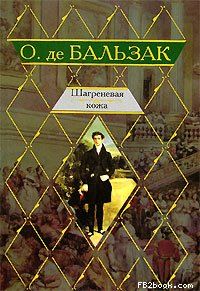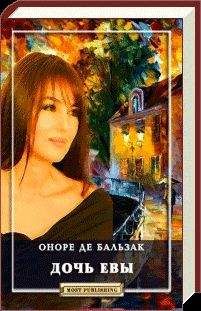Оноре Бальзак - Модеста Миньон
Дамы тотчас же упорхнули в гостиную, напустив на себя безразличный вид, а герцогиня де Шолье почувствовала, как в сердце ее шипят тысячи змей и все требуют пищи.
Госпожа д'Эрувиль тихо и, конечно, не без умысла сказала герцогине де Верней:
— Элеонора очень плохо встретила своего великого поэта.
— Герцогиня де Мофриньез полагает, что между ними пробежал холодок, — простодушно ответила Лаура де Верней.
Разве не примечательна эта фраза, которую так часто слышишь в свете? В ней чувствуется дыхание полярных снегов.
— Но почему? — спросила Модеста у этой очаровательной девушки, два месяца тому назад вышедшей из монастырского пансиона Сакре-Кер.
— Великий человек не написал ей ни единого слова за все две недели своего пребывания в Гавре, — ответила набожная герцогиня, делая знак своей дочери молчать, — а ведь он сказал ей, что едет туда для поправления здоровья.
При этих словах Модеста невольно вздрогнула, к удивлению Лауры, Элен и г-жи д'Эрувиль.
— А в это время, — продолжала благочестивая герцогиня, — Элеонора добивалась для него ленты командора и назначения послом в Баден.
— О, как это нехорошо со стороны Каналиса! Он всем ей обязан, — заметила г-жа д'Эрувиль.
— Но почему госпожа де Шолье не приехала в Гавр? — наивно спросила Модеста у Элен.
— Детка моя, — ответила герцогиня де Верней, — она скорее позволит убить себя, чем проронит хоть слово. Взгляните на нее! Что за королева! Она улыбалась бы даже на плахе, как Мария Стюарт, и, кстати сказать, в жилах нашей прекрасной Элеоноры течет кровь Стюартов.
— Она ему не писала? — продолжала свои расспросы Модеста.
— Диана сказала мне, — ответила герцогиня, которую г-жа д'Эрувиль незаметно подтолкнула локтем, поощряя на дальнейшие излияния, — что госпожа де Шолье послала едкий, убийственный ответ на первое письмо Каналиса, которое он написал ей дней десять тому назад.
Модеста покраснела от стыда за Каналиса, ей хотелось не то чтобы растоптать поэта, а отомстить ему при помощи одной из тех язвительных шуток, которые разят больнее, чем кинжал. Она гордо взглянула на герцогиню де Шолье. То был взгляд, позолоченный восемью миллионами.
— Господин Мельхиор! — позвала она.
Все женщины, подняв головы, смотрели то на герцогиню, которая, сидя за пяльцами, беседовала вполголоса с Каналисом, то на эту невоспитанную девицу, решившую прервать объяснение поссорившихся влюбленных. А ведь это не принято в светском обществе. Диана де Мофриньез покачала головой, словно говоря: «Что ж, девчурка имеет на это право!» И в конце концов все двенадцать дам улыбнулись, так как все они завидовали этой пятидесятишестилетней женщине, еще достаточно красивой, чтобы черпать радости из общей сокровищницы и перебивать дорогу молодым. Мельхиор взглянул на Модесту с нетерпеливой досадой, как господин на плохо вышколенного слугу, а герцогиня наклонила голову движением львицы, которую потревожили во время пиршества; но ее глаза, устремленные на вышивание, то и дело метали на поэта огненные взгляды, в то время как она разрывала ему сердце колкостями, где каждое слово таило в себе тройное оскорбление.
— Господин Мельхиор, — повторила Модеста властно, как женщина, которая имеет право требовать повиновения.
— Что, мадемуазель? — спросил поэт.
Он принужден был встать, но задержался на полпути между пяльцами, стоявшими у одного из окон, и камином, около которого Модеста сидела на диване рядом с г-жой де Верней. Мучительнейшие мысли нахлынули на этого честолюбца, когда он почувствовал на себе пристальный взгляд Элеоноры. Повиноваться Модесте? — тогда все будет безвозвратно кончено между ним и его покровительницей; не послушаться девушки? — он признает таким образом свое рабство и уничтожит все преимущества, добытые ценой двадцатипятидневной подлости, нарушит законы элементарной вежливости. Чем нелепее казался этот поступок, тем настойчивее требовала его герцогиня. Красота и богатство Модесты, сопоставленные с влиянием и правами Элеоноры, делали эту борьбу между корыстью и честью не менее трагичной в глазах зрителей, чем гибель матадора на арене цирка. Каналис едва не умер от разрыва сердца, оно билось так же сильно, как у зарвавшегося игрока, когда в какие-нибудь пять минут должна решиться его судьба: потеряет он все или разбогатеет.
— Госпожа д'Эрувиль так торопила меня, что я забыла в карете свой платок... — сказала Модеста Каналису.
Каналис судорожно выпрямился.
— А в этом платке, — продолжала Модеста, не обращая внимания на нетерпеливое движение поэта, — у меня завязан ключик от бумажника, в котором находится клочок важного письма. Будьте добры, Мельхиор, прикажите, чтобы мне принесли этот ключ.
Очутившись между ангелом и тигром, одинаково разъяренными, Каналис побледнел как смерть и больше не колебался; он счел тигра менее опасным и уже принял решение, как вдруг в дверях гостиной появился Лабриер, показавшийся поэту чем-то вроде архангела Михаила, упавшего с небес.
— Эрнест, ты как раз нужен мадемуазель де Лабасти, — сказал поэт, поспешно опускаясь на стул рядом с пяльцами.
Эрнест же бросился к Модесте, никому не поклонившись: он видел только ее. Выслушав с явной радостью ее поручение, он выбежал из гостиной, и все дамы с тайным сочувствием посмотрели ему вслед.
— Какое унижение для поэта! — сказала Модеста, указывая Элен на пяльцы, за которыми яростно работала герцогиня.
— Стоит тебе заговорить с ней, стоит тебе взглянуть на нее один только раз, и все будет кончено между нами, и навсегда, — тихо говорила Каналису Элеонора, которую не удовлетворил mezzo termine[108] Эрнеста. — И запомни хорошенько, — когда я уйду, другие глаза будут следить за тобой!
Вслед за этими словами герцогиня — женщина среднего роста и немного располневшая, как все красавицы, перешагнувшие за пятьдесят лет, встала и, легко ступая своими маленькими ножками, стройными, как у лани, направилась к кружку Дианы де Мофриньез. Несмотря на пышность форм, в ней было восхитительное изящество, — отличительная особенность женщин, у которых крепкая нервная система является неисчерпаемым источником сил и здоровья. Трудно объяснить иначе легкость ее походки, носившей печать ни с чем не сравнимого благородства. Только те женщины, род которых восходит ко временам Ноя, умеют держаться так же величаво, как Элеонора, несмотря на свою дородность богатой фермерши. Возможно, философ пожалел бы горничную Филоксену, любуясь туго затянутой талией герцогини и ее утренним туалетом, который она умела носить с достоинством королевы и с непринужденностью молодой женщины. Она еще заплетала в толстые косы свои густые и некрашеные волосы, смело укладывая их венцом вокруг головы, и гордо выставляла напоказ белоснежную шею, грудь, скульптурные плечи и ослепительные обнаженные руки, прославленные своей красотой. Модеста, как и все соперницы герцогини, признала в ней одну из тех цариц, о которых женщины говорят со вздохом: «Нам всем далеко до нее!» И действительно, в Элеоноре чувствовалась настоящая знатная дама, а они теперь очень редки во Франции. Все отличало ее: величественная посадка головы, грациозный, нежный изгиб шеи, плавные движения, благородная осанка, изумительная гармония всего облика и та выработанная утонченность, ставшая естественной, благодаря которой женщина кажется дивным совершенством. Но попытаться объяснить это — значило бы анализировать возвышенно-прекрасное. Прелестью красоты наслаждаются, как прелестью игры Паганини, не отдавая себе отчета, каким путем достигается производимое ею впечатление, так как причина его — в проявлении невидимой души. Герцогиня наклонила голову, здороваясь с Элен д'Эрувиль и ее теткой, и затем сказала Диане веселым, звучным голосом, в котором не было даже тени волнения:
— Не пора ли нам одеваться, герцогиня? И она направилась к выходу в сопровождении своей невестки и г-жи д'Эрувиль, которые взяли ее под руки. Удаляясь, она что-то тихо сказала старой деве, и та прижала ее к сердцу со словами:
— Вы очаровательны!
Это означало: «Можете вполне располагать мной за ту услугу, какую вы нам только что оказали». Охотно взяв на себя роль шпиона, г-жа д'Эрувиль вернулась в гостиную, и первый же ее взгляд дал понять Каналису, что последние слова герцогини не были пустой угрозой. Будущий дипломат почувствовал, как ничтожно все его искусство для такой трудной борьбы, и разум подсказал ему если не совсем достойный, то по крайней мере удобный выход из положения. Когда Эрнест возвратился с платком Модесты, он взял его под руку и вышел с ним вместе в сад.
— Дорогой друг, — сказал он Лабриеру, — я чувствую себя не скажу самым несчастным, но самым смешным человеком на свете. Поэтому я обращаюсь к тебе: помоги мне выбраться из осиного гнезда, куда я попал. Модеста — сущий демон; она видит мое замешательство и смеется надо мной; она только что при всех намекала на обрывок письма госпожи де Шолье, который я имел глупость дать ей. Если она покажет его, у меня не останется ни малейшей возможности помириться с Элеонорой. Итак, попроси немедленно этот клочок бумаги у Модесты и скажи ей от меня, что я не имею на нее никаких видов и отказываюсь от всяких притязаний. Я рассчитываю на ее деликатность, на ее девичью честность. Я прошу лишь об одном: не разговаривать со мной и держать себя так, словно мы никогда не встречались. Умоляю ее отнестись ко мне со всей суровостью, не смея, однако, просить, чтобы со свойственным ей лукавством она сделала вид, будто сердится и ревнует, хотя это и оказало бы мне огромную услугу. Иди, я подожду тебя здесь.