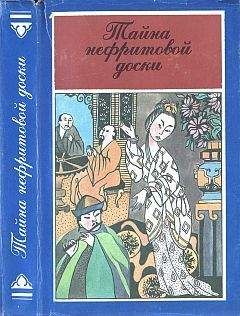Йоханнес Зиммель - Любовь - только слово
Уничтожение интеллигенции.
Сжигание книг.
Подготовка к войне.
Поход на Польшу.
Поход на Россию.
Концентрационные лагеря.
Интервенция и прочее.
Часто случается, что школьники смотрят на взрослых со стороны, например, на съезде в Нюрнберге, в Кроллоппер, где собирался рейхстаг или сотни тысяч с поднятой правой рукой, рычащие свое «Хайль!» на Олимпийском стадионе, когда фюрер, тощий Геббельс или жирный Геринг с пеной у рта, взахлеб, срывающимися голосами выкрикивали свои чудовищные лозунги.
Геббельс спрашивает:
— Вы хотите тотальной войны?
И неистовствующая, свирепствующая масса старается изо всех сил:
— Да! Да! Да!
Да, да, да.
Это были наши отцы.
Это были наши матери.
Это был немецкий народ.
Конечно же, не весь, было бы глупо утверждать подобное. Но большая часть его.
Вы хотите тотальной войны?
Да! Да! Да!
Не презрительно, но с удивлением, с непониманием, в растерянности смотрят дети на взрослых при таких кадрах на экране.
Я часто сижу спиной к телевизору и вглядываюсь в лица. Такое впечатление, что дети хотели бы спросить: «Как вообще это стало возможным, что вы поверили таким крикунам, таким толстякам, таким преступникам? Как такое могло с вами произойти?»
Они не говорят ни слова.
Они спрашивают глазами.
И взрослые опускают головы.
Фридрих Зюдхаус никогда не ходит на такие вечера. Он пишет, как говорят его соседи по комнате, длинные письма.
Никто не знает кому.
Скоро мы должны об этом узнать.
Господин Гертерих, воспитатель, становится все более бледным и худым. Никто больше не воспринимает его всерьез. Но нельзя также сказать, что он мешает. Он просто делает все вместе со всеми.
— Я думаю, мы его воспитали, — говорит Али.
Маленький черный Али в своей религиозной неумолимости, впрочем, развязал целый скандал.
Во Фридхайме есть две церкви: протестантская и католическая.
В субботу много детей приходят в церкви. Парочки всегда заходят вместе в одну церковь независимо от принадлежности к той или иной конфессии.
Напишу лучше: парочки ходили.
Так как это уже в прошлом.
Али принял за оскорбление и несказанно возмутился, когда увидел в своей католической церкви трех девушек и трех молодых людей-протестантов.
Он сразу же помчался к своему досточтимому святому отцу.
Тот созвонился со своим коллегой, подметившим, кстати, что и в протестантской церкви находились несколько католиков и католичек.
Оба духовных лица сразу обратились к шефу и нажаловались.
С тех пор надзиратели и воспитатели вместе ходят в обе церкви.
Какие же были последствия?
Парочки различных конфессий вообще не ходят на службу в церкви.
Они пропадают в лесу.
Устраивать свою судьбу в церквях они уже не будут.
Ноа сказал Рашиду:
— Мне бы заботы этих господ! Радуйся, маленький принц, что здесь нет синагог и мечетей!
— Неплохо было бы, если бы во Фридхайме построили мечеть! — ответил Рашид. — Так здорово дома, когда муэдзин по вечерам зовет на молитву!
Школьники третьего, пятого, седьмого и восьмого классов организовали хор. Он репетирует в спортивном зале и специализируется на духовных песнях североамериканских негров. Среди них действительно есть великолепные певцы, они выполняют тяжелую работу и, когда находятся в хорошей форме, дают концерты в разных городах, соревнуясь с другими хорами. Один из них, поющий лучше всех, — бедный маленький Джузеппе. Иногда я слушаю, как «Менестрели» — так они себя назвали — репетируют. У них много песен. Наш учитель музыки, господин Фридрис, написал мелодию с текстом на английском языке. Песня, которая мне особенно нравится, называется «Стой смирно, Джордан!»
Стой смирно, Джордан!
Стой смирно!
Но не могу я этого делать,
Хотя все-таки должен…
Все, что еще остается от Верены, — это ее голос, и то не каждый день, хотя я жду этого голоса, этого телефонного звонка, как воду испытывающий жажду.
— Терпение… Еще немного терпения… Он постоянно следит за мной. Я не могу покинуть дом даже вместе с ребенком. Сейчас он как раз на час уехал в город… Я должна закончить разговор, не сердись, любимый! Надеюсь, до завтра.
Надеюсь, до завтра.
А может быть, у нее есть кто-то другой?
Нет, тогда она больше не звонила бы.
Или все-таки кто-то есть?
— Записывай нашу историю и терпи, — сказала она.
Прошло всего недели, а мне кажется, что два года. Что мне делать? Я записываю нашу историю от руки. Обработав и поправив текст, я печатаю его на машинке. Получилось уже целая пачка страниц, слава богу, достаточно толстая, но не до такой степени, чтобы совсем лишить меня сил и отбить желание продолжать эту работу.
Поначалу я и собирался все закончить, поскольку думал, что все это было чепухой. Может быть, это действительно чепуха…
Я должен наконец рассказать еще одну историю, вызывающую улыбку (не смех) у всего интерната.
Я уже писал об учителе английского языка, с которым мы читали «Бурю» Шекспира. По ролям. Я также поведал о том, каким восхитительным был этот человек. Молод. Всегда с шиком одет. Постоянно любезен и при всем этом — полный авторитет у ребят.
Мы все любим его. И он любит нас. Мальчиков немножко больше, чем девочек. Но здесь необходимо быть очень внимательным, чтобы подметить, что он живет с оглядкой, так как является жутко осторожным развратником, который никогда не позволил бы себе какую-либо вольность в стенах интерната. Для этого он слишком честолюбив!
Ну вот, как сообщает Ганси: однажды утром, когда учитель английского языка мистер Олдридж входит в четвертый класс, на его столе стоит ваза с великолепными цветами.
Кто их поставил?
Никто не признается.
Мистер Олдридж усмехается, кланяется во все стороны и благодарит всех сразу, так как никто не называет себя лично.
И все опять довольны его любезностью.
В этом классе учится Чичита, которая делала макумбу для Гастона и Карлы. Ей пятнадцать лет.
После урока, когда пустеет классная комната, Чичита не уходит.
Ганси — этот маленький чертенок успевает везде — подслушивает у двери, и то, что он слышит, позже, конечно, рассказывает не только мне, но и всем другим…
Мистер Олдридж складывает свои книги и говорит с удивлением:
— Что ты здесь делаешь, Чичита? Ведь сейчас же перемена?
— Я должна вам что-то сказать, мистер Олдридж…
(Вся беседа происходит, конечно, на английском языке, но Ганси уже достаточно владеет английским, чтобы все понять, а так как он еще и подсматривает в замочную скважину, то впоследствии может утверждать, что Чичита чуть не лопнула от смеха, «но, как должен я вам сказать, покраснев от уха до уха».)
— Итак, Чичита?
— Цветы…
— Что с цветами?
— Они от меня, мистер Олдридж!
— От тебя? А почему, собственно, ты даришь мне цветы?
— Потому что… я не могу этого сказать!
— Но я желал бы знать это!
— Тогда вы должны отвернуться! Пожалуйста, мистер Олдридж!
Так вот, учитель английского языка поворачивается к маленькой бразильянке спиной, и она совсем тихо произносит:
— Потому… потому… потому что я люблю вас!
И быстро бежит к двери (Ганси едва успевает отбежать на пару шагов в сторону и потом бросается вниз по коридору на улицу).
Когда эта история за обедом становится достоянием гласности, то о Чичите начинают злословить.
Она очень расстроена.
Кто подслушал?
Кто предал?
Она сидит здесь. Ничего не ест, уставившись в одну точку.
Но тут я должен сказать, что некоторые из этих гомиков обладают чрезвычайным шармом.
Знаете, что случилось?
Учителя ведь едят вместе с нами в одном и том же зале, в одно и то же время. Неожиданно мистер Олдридж встает, идет к Чичите, дотрагивается до ее заплаканного лица, поднимает за подбородок и говорит с поклоном:
— В последние недели ты была такой усердной и прилежной, что я хотел бы кое о чем спросить.
— Вы… хотите… меня… о чем-то… спросить… мистер Олдридж?
— Не могла бы ты доставить мне удовольствие и сегодня вечером в семь часов поужинать со мной в ресторане «А»?
(Это он, естественно, заранее обсудил с шефом, и я вижу, как шеф ухмыляется.)
Маленькая Чичита встает, вытирает слезы и делает реверанс.
— С удовольствием, мистер Олдридж, — говорит она, если только я не буду вам в тягость…
— В тягость? Это будет для меня большой радостью и честью, Чичита! Позволю себе зайти за тобой в половине седьмого.
Итак, в этот вечер Чичита одалживает у одной подруги самое красивое платье, у старших девочек — помаду и духи и идет под руку с мистером Олдриджем в ресторан «А» ужинать.