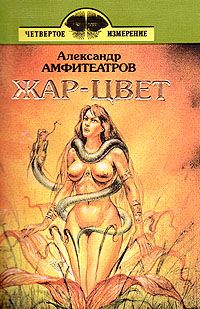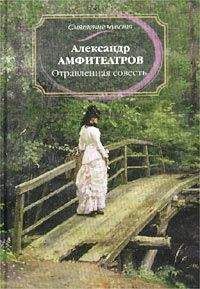Александр Амфитеатров - Жар-цвет
Бредни? Бредни? Однако я не знал, по крайней мере, не помнил об этих бреднях, когда встретил розовую незнакомку — как раз там, где они заставляли бродить мертвую Зосю, как раз там, где оказалась потом ее могила.
Странный розовый призрак мелькнул мне именно у кургана, откуда майский ливень добыл для меня вот этот странный розоватый мрамор, такой необычайно легкий, прозрачный и будто мягкий в руке.
Эти ручки — ручки Зоей Здановки, полтораста лет спящей в Земле. Я сжимаю их и думаю о ней. Зачем приходила она к прадеду — такая же, как ходит теперь ко мне, с тем же выражением в лице, с тою же мукою в глазах?
Что должен он сделать для нее? Чего не сумел сделать, чтобы успокоить ее страждущую тень? "Вriser la prison de marbre…" разрушить темницу или освободить из темницы?.. Fantome cheri[71]… Fleur fatale…при чем тут fleur fatale[72]? Она ли — роковой цветок, по поэтической метафоре прадеда, или… Ба! А первый отрывок, дешифрованный ксендзом Августом? "Цвел 23 июня 1823… цвел 23 июня 1830… не мог воспользоваться… глупо… страшно…" Не об этом ли роковом цветке идет теперь речь? Что если восстановить испорченный текст хотя бы в такой форме: "Je jure sur les roses, fleurissantes a tes joues, fantome cheri, qui je me procurerai de la fleur fatale et je te rendrai a la vie', interrompu si cruellement"[73].
Клятва безумная, но разве не безумно все, что совершается теперь вокруг меня?
"Цвел 23 июня 1823… 1830…" и через семилетний промежуток намечен периодически цвести до конца столетия. Текущий 1893 год в том числе. Таким образом, всего две недели отделяют меня от тайны de la fleur fatale…
"Может быть, кому-нибудь из потомков удастся, что не удалось мне", — пишет прадедушка, точно завещая мне, своему преемнику по мистической жажде, непонятную, по непременную миссию. Ах, Иван Никитич! Бог тебе судья, заморочил ты мою голову!
* * *Вот уже вторая неделя, что я стою одной ногою в мире действительности, другою — где-то за границею возможного… и за границу эту тянет меня, тянет ступить другою ногою. Я заперся дома, нигде не бываю, никого не принимаю. Ольгуся пишет мне письма, полные упреков… Пускай! Не до нее…
Нет больше сомнений!
Я знаю теперь, кого я видел в саду, кто за-глянул ко мне через плечо, когда я мастерил фейерверк для Ольгуси, кого встретила Ольгуся в гостиной, когда была у меня, — это Зо-ся Здановка.
Пишу это имя твердою рукою, потому что если даже я помешан, то помешан на ней. Ее имя — та неподвижная идея, около которой вращаются мои мысли.
Вчера вечером, когда меня, одинокого, вновь окружил тот странный, густой, как будто полный незримой, но веской и тягу, чей материи воздух, что стал в последнее время неизменным спутником моих размышлений, — я вдруг непостижимым экстазом почувствовал, что какой-то могучий прилив небывалых сил словно захватил меня из земной среды и возвысил меня над нею таинственною, сверхчеловеческою властью. Взор мой упал на мраморные ручки Зоей… Я машинально поднял их со стола, крепко сжимая мрамор в бессознательном восторге.
Я чувствовал, что она, когда-то воплощенная в этом камне, здесь, возле меня, что стоит позвать ее — и она придет.
И я позвал ее…
Тогда от ручек пошли как будто лучи — бледные, белесовато-палевые… воздух пропитался тем мутным брожением, тою эфирною зыбью, которые до сих пор я считал обманом своего больного зрения… Казалось, предо мною происходила какая-то полузримая борьба: что-то рвалось ко мне и что-то другое не пускало… Я понял, что должен напрячь все силы воли — и я позвал Зосю: теперь я уже не сомневался, что это Зося! — еще и еще.
И она появилась… А! Теперь я понимаю прадеда! Она так несчастна! Когда я слышу ее стон, лицо ее искажается таким тяжелым и долгим страданием, что сердце мое разрывается на части, что я, вне себя, готов хоть в ад — лишь бы понять и прекратить ее горе… лишь бы возвратить ей счастье и покой, о которых она рыдает.
Зависит ли это от меня? О да! Иначе — зачем бы именно ко мне явилась она? Зачем я, а не любой из мужчин, любая из женщин околотка стали жертвами ее грустного присутствия? Зависит. Я читаю это в ее голубых отемненных слезами глазах. Она ищет в правнуке — чего не сумел дать ей прадед.
Так выскажись же, чего ты ждешь? Чего тебе надо? Не мучь и себя, и меня… Или не можешь? Не вольна? Тень, достигшая материализации, но лишенная слова? Астральное тело, не осязаемое и беззвучное? Но бесстрастное ли?
Вчера, когда она явилась, я задумался об ее удивительном сходстве с Ольгусею и вдруг — не узнал ее; так гневно вспыхнули ее глаза… Что значит этот гнев? Чем мешает ей Ольгуся? Любит она меня, что ли, ревнует? Да разве "там" есть любовь и ревность? А почему нет? Если вместе с телом не умирают другие человеческие страдания, почему должны умереть эти?
Чтобы разбить "фантастическое настроение", как выражается Паклевецкий, я схватил первую попавшуюся под руку книгу из библиотеки и стал читать, где открылась страница. Оказалось, Лермонтов. А что попалось — не угодно ли?!
Коснется ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Моя душа в немом страданье
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне огнем.
Ты не должна любить другого,
Нет, не должна:
Ты мертвецу святыней слова
Обречена.
Словно загадал!.. Нечего сказать — утешительно!
* * *Статуя… Мрамор… Мрамор не ходит, мрамор не движется… Да. Но легенда о Пигмалионе стара, как мир, и ровесница скульптуре. Мраморная Диана, на палец которой молодой римский патриций надел кольцо свое, почла себя невестою и не допустила жениха своего быть мужем другой… В средневековом монастыре статуя Мадонны ожила, чтобы спасти грешную игуменью, увлеченную любовью в бегство из обители… Каменный Гость…
Сказки, легенды, предания, выдумки поэтов… Но когда "это"… я не знаю, что "это"… стояло предо мною — немое, живое, прекрасное — в плаче и в движении? И ветер вил золото кудрей, и рука опиралась на стол, и ножки ступали по ковру…
Альберт Великий сделал когда-то автомат прекрасной женщины. Когда статуя заговорила, Фома Аквинский в ужасе принял ее за дьявола и разбил палкою. Вошел Альберт, увидал и воскликнул, отчаянный:
— Фома! Фома! Что ты сделал? Ты разбил тридцать лет моей работы — тридцать лет жизни моей уничтожил ты, Фома!
Он умер с горя по своей прекрасной движущейся статуе…
Я должен понять, должен догадаться, чего хочет от меня эта странная мертвая красавица, которая каждый день ходит ко мне в гости с того света, точно из соседнего имения, о чем молит меня ее скорбный, плачущий взор?..
Она нема… все еще нема… если губы ее шевелятся, в ушах моих, как и в первый день, когда я сознательно вызвал ее, раздаются лишь два слова:
— Жар-Цвет… Жар-Цвет…
И я по-прежнему не знаю, она ли это говорит или то звук не от нее самой, но воздух вокруг нее плачет и стонет?
Жар-Цвет… Какое красивое слово Жар-Цвет… Как жизнь… Сколько тепла и красок…
17 июняДикий и страшный день!
Она чуть-чуть было не заговорила…
Но прежде чем с губ ее вырвался хоть один звук, лицо ее исказилось ужасом и отвращением, она потемнела, как земля, опрокинулась на спину, переломилась, как молодая березка, и расплылась серыми хлопьями, как дым в сырой осенний день. А я услыхал другой голос, противный и уже, несомненно, человеческий:
— Здравствуйте, граф… Что это за манипуляции вы здесь проделывали?
На пороге кабинета стоял Паклевецкий.
— Как вы взошли? Кто вас пустил? — крикнул я, будучи не в силах сдержать свое бешенство.
— Ого, как строго! — насмешливо сказал он, спокойно располагаясь в креслах. — Взошел через дверь — вольно же вам, не запираться на ключ, когда вы заняты. А пустил меня к вам Якуб. Да вы не гневайтесь: я гость не до такой степени некстати, как вы думаете.
— Сомневаюсь! — грубо крикнул я ему.
— Сомнение есть мать познания, — возразил он и вдруг подошел ко мне близко-близко…
— Так как же, граф? — зашептал он, наклоняясь к моему уху и пронизывая меня своими лукавыми черными глазами. — Так как же? Все Зося? А? Все Зося?
Если бы потолок обрушился на меня, я был бы меньше удивлен и испуган. Я с ужасом смотрел на Паклевецкого и едва узнавал его: так было сурово и злобно его внезапно изменившееся, страшное, исхудалое лицо…
— Я не понимаю вас, — пролепетал я, стараясь отвернуться.
— Ну, не притворяйтесь, ваше сиятельство, — холодно сказал Паклевецкий. — Будет нам играть в темную, откроем карты… Рыбак рыбака видит издалека!
— Кто вы такой?
— Как вам известно, уездный врач Паклевецкий.
— Откуда же вы знаете?
— А вот, представьте себе, — знаю. А каким образом — не все ли равно вам?