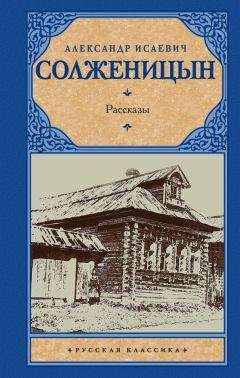Александр Солженицын - В круге первом (т.1)
Рубин отдал. Его не обидела эта предосторожность, но рассмешила. Как будто эти пять фамилий уже не горели у него в памяти: Петров! — Сяговитый!
— Володин! — Щевронок! — Заварзин! Долгие лингвистические занятия настолько въелись в Рубина, что и сейчас он мимолётно отметил происхождение фамилий: «сяговитый» — далеко прыгающий, «щевронок» — жаворонок.
— Попрошу, — сухо сказал он, — от всех пятерых записать ещё телефонные разговоры.
— Завтра вы их получите.
— Ещё: проставьте около каждого возраст. — Рубин подумал. — И — какими языками владеет, перечислите.
— Да, — поддержал Селивановский, — я тоже подумал: почему он не перешёл ни на какой иностранный язык? Что ж он за дипломат? Или уж такой хитрый?
— Он мог поручить какому-нибудь простачку! — шлёпнул Бульбанюк по столу рыхлой рукой.
— Такое — кому доверишь?..
— Вот это нам и надо поскорей узнать, — толковал Бульбанюк, — преступник среди этих пяти или нет? Если нет — мы ещё пять возьмём, ещё двадцать пять!
Рубин выслушал и кивнул на магнитофон:
— Эта лента мне будет нужна непрерывно и уже сегодня.
— Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним отведут отдельную комнату в совсекретном секторе.
— Её уже освобождают, — сказал Смолосидов.
Опыт службы научил Рубина избегать опасного слова «когда?», чтобы такого вопроса не задали ему самому. Он знал, что работы здесь — на неделю и на две, а если ставить фирму, то пахнет многими месяцами, если же спросить начальство «когда надо?» — скажут: « завтра к утру». Он осведомился:
— С кем ещё я могу говорить об этой работе?
Селивановский переглянулся с Бульбанюком и ответил:
— Ещё только с майором Ройтманом. С Фомой Гурьяновичем. И с самим министром. Бульбанюк спросил:
— Вы моё предупреждение всё помните? Повторить?
Рубин без разрешения встал и смеженными глазами посмотрел на генерала как на что-то мелкое.
— Я должен идти думать, — сказал он, не обращаясь ни к кому.
Никто не возразил.
Рубин с затенённым лицом вышел из кабинета, прошёл мимо дежурного по институту и, никого не замечая, стал спускаться по лестнице красными дорожками.
Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу. Как же работать, ни с кем не советуясь?.. Задача будет очень трудна. Работа над голосами только-только у них началась. Первая классификация. Первые термины.
Азарт исследователя загорался в нём.
По сути, это новая наука: найти преступника по отпечатку его голоса.
До сих пор находили по отпечатку пальцев. Назвали: дактилоскопия, наблюдение пальцев. Она складывалась столетиями.
А новую науку можно будет назвать голосо-наблюдение (так бы Сологдин назвал), фоноскопия. И создать её придётся в несколько дней.
Петров. Сяговитый. Володин. Щевронок. Заварзин.
37
На мягком сиденьи, ослонясь о мягкую спинку, Нержин занял место у окна и отдался первому приятному покачиванию. Рядом с ним на двухместном диванчике сел Илларион Павлович Герасимович, физик-оптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчёркнуто-интеллигентским лицом, да ещё в пенсне, с каким рисуют на наших плакатах шпионов.
— Вот, кажется, ко всему я привык, — негромко поделился с ним Нержин.
— Могу довольно охотно садиться голой задницей на снег, и двадцать пять человек в купе, и конвой ломает чемоданы — ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тянется от сердца на волю ещё вот эта одна живая струнка, никак не отомрёт — любовь к жене. Не могу, когда её касаются. В год увидеться на полчаса — и не поцеловать? За это свидание в душу наплюют, гады.
Герасимович сдвинул тонкие брови. Они казались скорбными даже когда он просто задумывался над физическими схемами.
— Вероятно, — ответил он, — есть только один путь к неуязвимости: убить в себе все привязанности и отказаться от всех желаний.
Герасимович был на шарашке Марфино лишь несколько месяцев, и Нержин не успел близко познакомиться с ним. Но Герасимович нравился ему неизъяснимо.
Дальше они не стали разговаривать, а замолчали сразу: поездка на свидание — слишком великое событие в жизни арестанта. Приходит время будить свою забытую милую душу, спящую в усыпальнице. Подымаются воспоминания, которым нет ходу в будни. Собираешься с чувствами и мыслями целого года и многих лет, чтобы вплавить их в эти короткие минуты соединения с родным человеком.
Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сержант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу автобуса и дважды пересчитал глазами выезжавших арестантов (старший надзиратель ещё прежде того расписался на вахте за семь голов). Потом он полез под автобус, проверил, никто ли там не уцепился на рессорах (бесплотный бес не удержался бы там минуты), ушёл на вахту — и только тогда отворились первые ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную черту и, пришёптывая весёлыми шинами, побежал по обындевевшему Владыкинскому шоссе мимо Ботанического сада.
Глубокотайности своего объекта обязаны были марфинские зэки этими поездками на свидания: приходящие родственники не должны были знать, где живут их живые мертвецы, везут ли их за сто километров или вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома или с того света, — они могли только видеть сытых, хорошо одетых людей с белыми руками, утерявших прежнюю разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих, что у них всё есть и им ничего не надо.
Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стелл — плит-барельефов, где изображался и сам мертвец и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стеллах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не весёлым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом.
Нержин обернулся, чтобы с пригорка увидеть, чего почти не приходилось ему: здание, в котором они жили и работали, тёмно-кирпичное здание семинарии с шаровым тёмно-ржавым куполом над их полукруглой красавицей-комнатой и ещё выше — шестериком, как звали в древней Руси шестиугольные башни. С южного фасада, куда выходили Акустическая, Семёрка, конструкторское бюро и кабинет Яконова — ровные ряды безоткрывных окон выглядели равномерно-бесстрастно, и окраинные москвичи и гуляющие Останкинского парка не могли бы представить, сколько незаурядных жизней, растоптанных порывов, взметённых страстей и государственных тайн было собрано, стиснуто, сплетено и докрасна накалено в этом подгороднем одиноком старинном здании. И даже внутри пронизывали здание тайны. Комната не знала о комнате. Сосед о соседе. А оперуполномоченные не знали о женщинах — о двадцати двух неразумных, безумных женщинах, вольных сотрудницах, допущенных в это суровое здание, — как эти женщины не знали друг о друге и как могло знать о них одно небо, что все они двадцать две под занесенным мечом и под постоянное наговаривание инструкций или нашли здесь себе потаённую привязанность, кого-то любили и целовали украдкой, или пожалели кого-то и связали с семьёй.
Открыв тёмно-красный портсигар, Глеб закурил с тем особенным удовольствием, которое приносят папиросы, зажжённые в нерядовые минуты жизни.
И хоть мысль о Наде была сейчас высшая, поглощающая мысль, — его телу, наслаждённому необычностью поездки, хотелось только ехать, ехать и ехать… Чтобы время остановилось, а шёл бы автобус, шёл бы и шёл, по этой оснеженной дороге с проложенными чёрными прокатинами от шин, мимо этого белого парка в инее, густо закуржавевших его ветвей, мелькающих детишек, говора которых Нержин не слышал, кажется, с начала войны. Детских голосов не приходится слышать ни солдатам, ни арестантам.
Надя и Глеб жили вместе один единственный год. Это был год — на бегу с портфелями. И он, и она учились на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали государственные экзамены.
Потом сразу пришла война.
И вот у кого-то теперь бегают смешные коротконогие малыши.
А у них — нет…
Один малышок хотел перебегать шоссе. Шофёр резко вильнул, чтоб его объехать. Малыш испугался, остановился и приложил ручёнку в синей варежке к раскраснелому лицу.
И Нержин, годами не думавший ни о каких детях, вдруг ясно понял, что Сталин обокрал его и Надю на детей. Даже кончится срок, даже будут они снова вместе — тридцать шесть, а то и сорок лет будет жене. И — поздно для ребёнка…
Оставив слева Останкинский дворец, а справа — озеро с разноцветными ребятишками на коньках, автобус углубился в мелкие улицы и подрагивал на булыжнике.
В описании тюрем всегда старались сгущать ужасы. А не ужаснее ли, когда ужаса нет? Когда ужас — в серенькой методичности недель? В том, что забываешь: единственная жизнь, данная тебе на земле — изломана. И готов это простить, уже простил тупорылым. И мысли твои заняты тем, как с тюремного подноса захватить не серединку, а горбушку, как получить в очередную баню нерваное и немаленькое бельё.