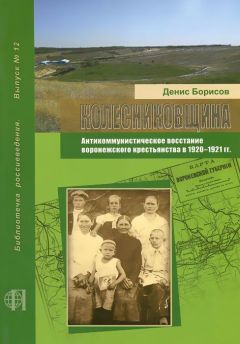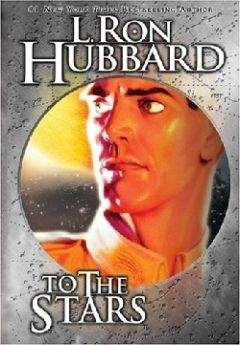Ливиу Ребряну - Восстание
Мирон Юга вызвал к себе их всех, даже Платамону, чтобы лучше уяснить для себя положение дел. Самым перепуганным оказался отставной полковник. Он причитал, как баба, боясь потерять все, что удалось собрать за долгие годы жизни. Но особенно он волновался из-за трех своих дочерей, которых хотел куда-нибудь вывезти, чтобы над ними, упаси бог, не надругались эти взбесившиеся звери. Однако когда Мирон Юга стал выпытывать, что же у него творится, то полковник признал, что в его поместье царит покой и порядок, мужики на работу подрядились, но к весенней вспашке еще не приступили. Однако он страшится завтрашнего дня, ибо эти бешеные звери не заслуживают ни малейшего доверия.
— Как же мне оставаться хладнокровным, сударь, коли я их знаю как облупленных! — воскликнул плачущим голосом Штефэнеску. — У вас здесь жандармы под рукой. А я один-одинешенек с бедными моими дочками в самом логово разбойников, — что они захотят, то с нами и сделают. Я попросил у генерала Дадарлата хотя бы отделение солдат для охраны невинных девушек. Куда там! Не может! Будто и у него в поместье лишь один денщик… Как же после этого заниматься в нашей стране земледелием? Конечно, мужики могут с нас заживо кожу содрать, раз правительству наплевать на нашу судьбу!
— Если вы будете говорить это в присутствии крестьян, не удивляйтесь, что они постараются с вами разделаться! — иронически заметил Мирон Юга.
— Что вы, сударь! — негодующе запротестовал полковник. — Как вы могли даже предположить такое? Это я говорю здесь, только вам, моим собратьям. А мужиков я муштрую по всем правилам! Как же иначе?
Спокойнее других был Платамону. Дочь он заблаговременно отправил в Питешти, а ему самому с женой и сыном бояться нечего. Они останутся на месте, что бы ни случилось. Впрочем, им даже некуда податься, так как все их состояние вложено в оба арендуемые им поместья. Он, конечно, не заикнулся о деньгах в твердой валюте, хранящихся в бухарестском банке. Это его личное дело. Кроме того, с крестьянами он в наилучших отношениях. Он никогда их не притеснял, не задевал грубым словом, даже пальцем никого не тронул, так что у них нет причин его ненавидеть. Вот только бедный Кирилэ Пэун обиделся на него из-за истории между его дочкой и Аристиде, но с ним он тоже как-нибудь поладит по-хорошему. В отношении поместья Леспезь он прекрасно столковался с крестьянами: правда, он кое в чем пошел им навстречу, но надеется, что сумеет вознаградить себя иным путем. А вот с Бабароагой дело хуже. Раньше мужики всячески пытались купить это поместье, а теперь требуют, чтобы его разделили между ними бесплатно. К счастью, приезжает владелица и лично ликвидирует неразбериху с Бабароагой.
Козма Буруянэ не мог рассказать ничего нового. Его трусость была Юге хорошо известна. Козма не хотел никому признаться лишь в том, что подготовил свою семью к отъезду в любую минуту. Пусть уж лучше пойдет прахом все состояние, только бы сохранить жизнь.
Мирон Юга посоветовал им не терять хладнокровия и энергии, но сам прекрасно понимал, что его советы — пустые слова, брошенные на ветер. Все эти люди уже сейчас ни живы ни мертвы от страха. По существу, он их вызвал, чтобы проверить собственное мнение. Основываясь на своих сведениях, старик считал, что слухи о намерении крестьян восстать являются, скорее всего, плодом воспаленного воображения трусов. Сетования арендаторов только лишний раз подтвердили его предположения.
Значительно больше доверял он старосте и начальнику жандармского участка, с которыми обстоятельно побеседовал в тот же вечер, после ухода арендаторов. Оба доложили, что мужики ведут себя смирно, правда, как всегда, ворчат из-за условий найма на работу, но, несомненно, опомнятся и примутся за дело, как только установится погода. О покупке Бабароаги они уже не помышляют, так как им втемяшилось в голову, будто власти отдадут ее мужикам бесплатно. Вот и выдумали сказку о белых конниках, которые возвещают о разделе земли… Мужики всегда только об этом и думают, в особенности весной. Однако староста почтительно добавил, что необходимо во всем действовать совместно с жандармами, чтобы сразу поставить на место любого сумасброда, который осмелился бы пойти на злодеяние. Боянджиу, в свою очередь, заметил, что староста должен быть постоянно начеку, так как жандармский участок у них маленький — там всего пять человек, включая унтера. Мирон Юга пообещал напомнить об этом префекту, который на днях должен сюда заехать, и выяснить, не сможет ли тот прислать еще нескольких жандармов. Он тут же прибавил, что порядок зависит не от количества стражей порядка, а от их бдительности.
— Мужики должны чувствовать твердую власть! — добавил он. — Не провоцировать, но и не колебаться! Любую попытку вызвать беспорядки необходимо пресекать энергично и так, чтобы другим было неповадно.
— Понятно, барин! — покорно пробормотал староста.
— Здравия желаю! — гаркнул Боянджиу, выпячивая грудь колесом, чтобы доказать свое рвение…
3Титу Херделя и Григоре Юга приехали в Бухарест в сумерки. Скорый поезд был переполнен смертельно напуганными людьми, которые, опасаясь крестьян, побросали на произвол судьбы все свое добро, ища пристанища в столице, единственном месте, где они надеялись быть в безопасности.
— Это начало паники! — подавленно заметил Григоре. — Вам, конечно, понятно, как это усугубляет все наши несчастья.
Так как в давке и сумятице, царившей на площади Северного вокзала, пролетки им достать не удалось, Григоре и Титу втиснулись в набитую до отказа конку. На площади Национального театра они сошли. Григоре сказал, что заглянет к Пределяну, а Титу намеревался пойти позднее в город, чтобы разузнать последние новости. Как раз когда они прощались, мимо них пробежал цыганенок — продавец газет, вопя во все горло.
— «Адевэрул»! Специальный выпуск!.. «Адевэрул»!.. Специальный выпуск!..
Оба купили газету. Им сразу же бросился в глаза жирный заголовок: «Палата депутатов обсуждает крестьянские беспорядки». Не обменявшись ни словом, они подошли поближе к фонарю, чтобы прочесть сообщение. После запроса в палате депутатов возникла ожесточенная перепалка по поводу бурно разрастающихся крестьянских волнений. Несколько оппозиционных депутатов резко обвиняли правительство в том, что оно не сумело предотвратить недовольство в стране, защищали крестьян и требовали не прибегать к кровавым репрессиям. Правительственные депутаты, в свою очередь, обвиняли оппозицию в том, что она поддерживает злоумышленников, а ее агенты подстрекают крестьян к беззакониям и преступлениям.
— Хорошенькое дело! — пробормотал Григоре. — Страна полыхает огнем, а они обмениваются комплиментами.
Титу пошел по Каля Викторией. Отовсюду слышалось лишь: «восстания», «мужики», «беспорядки», «арендаторы»… Он свернул направо по проспекту к своему дому. Его окликнул знакомый голос — это был молодой Мендельсон, сын сапожника с улицы Бузешти.
— А, господин Херделя!.. Как поживаете?.. Что скажете о восстаниях? А? Хорош сюрприз для мироедов? Они думали, что нашли козла отпущения: евреи, мол, виноваты в том, что мироеды крестьян эксплуатируют! Сами знаете, у нас евреи всегда во всем виноваты. Но вот крестьяне повернули против мироедов, и теперь крестьяне уже тоже плохие. Значит, теперь надо напустить на них войска, надо убивать и вешать мужиков.
Мендельсон говорил со странной улыбкой, которая вызвала у Титу такое раздражение, что он укоризненно ответил:
— Не вижу никаких причин для радости, господин Мендельсон…
— А разве я радуюсь? — запротестовал юноша так горячо, что произнес эти слова с почти комической интонацией. — Кто вам сказал, что я радуюсь?.. Во-первых, я, как социалист, против насилия и, следовательно, не могу радоваться. Во-вторых, я прекрасно зваю, что несчастные крестьяне заплатят потоками крови за то, что посмели восстать против господ…
И Мендельсон четверть часа излагал Титу теорию социальной несправедливости, стремясь доказать, что он переживает нынешние события болезненнее, чем кто бы то ни было. Чтобы избавиться от его разглагольствований, Титу извинился, сказав, что он только что приехал и спешит домой, но Мендельсон проводил его до самой калитки и не отстал, пока не изложил все свои соображения.
Дома Титу нашел два письма. В одном, отправленном по почте, Танца писала, что придет к нему в среду часам к шести вечера, когда чуть стемнеет, а пока посылает ему тысячи поцелуев. Во втором письме Белчуг сообщал Титу, что поспешно уезжает, ибо революция слишком уж разбушевалась, того и гляди, дойдет до Бухареста, и тогда малейшая задержка будет стоить ему жизни… Титу пожалел, что священник удрал так неожиданно. Ему хотелось послать домой родным хоть какие-нибудь безделушки на память о Бухаресте. Но, держа в руке записку священника, он думал о другом: «Когда пишет Танца, что придет? В среду?.. А сегодня понедельник… Значит, лишь послезавтра…»