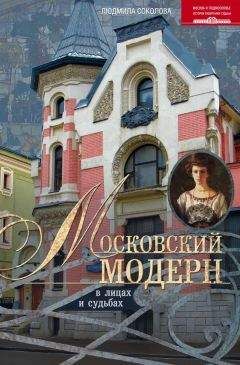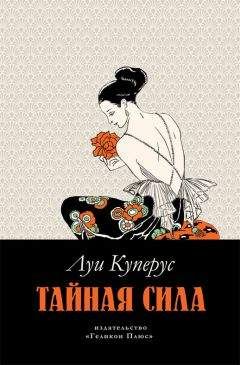Рихард Вайнер - Банщик
Поднялся ветер, буря. Погода самая подходящая для того, чем мы с тобой занимаемся. А у тебя есть, чем прикрепить такой нужный белый волшебный лист, это слепое зеркало, которое нужно рассмотреть. — Нет? — А как же наши чертежные кнопки? П.С., Квайде, Бельтрам и т. д.? Как было бы удобно иметь под рукой сон со всеми удобствами и современным комфортом. Не стоит скромничать. Давайте не будем говорить, что удовлетворимся тем, что имеем; скажем правду: я честолюбивее обычных копиистов. Из двух ребер и трех позвонков вывели весь скелет мамонта или динозавра. Они ненастоящие, но они существуют. И, существуя, они — как всегда — лучше, чем «правда». — Покусимся на кое-что лучшее. Для нас чертежные кнопки не являются даже элементами; мы используем их единственно с тем, чтобы заворожить тщетность, которой потеет судьба, от которой не уйти, и произвол, который нас к ней понуждает. Заворожить, чтобы она окаменела в пещерах, где воет вьюга, метущая из неизвестности в неизвестность. Но что из того, знаем ли мы хотя бы — куда?! В общем, никакие это не транскрипции снов, а как бы сны в квадрате. Эта смешная малость, которую сохранила наша память, в сущности служит нашему труду только для зачаровывания листа, в который мы вглядываемся до тех пор, пока он не ответит нам отражением нашей намеренной беспомощности.
Осталось добавить несколько слов pro domo[40]. Осталось — например — разбить какую-нибудь посудину об голову тех, кто нападет на нас с сюрреализмом. Таким, пусть в остальном и веским, аргументам я всегда принципиально противился. Если бы я сказал, что впадал в уныние уже тогда, когда сюрреализм ходил в коротких штанишках, это вовсе ничего бы не означало и одновременно многое бы доказывало[41]. Но вот доказав, что я уже тогда предчувствовал и говорил, что к Богу можно прийти единственно через последовательное отчаяние, то есть через отчаяние, которое не обманет никакое утешение и в конце которого тому, кто ожесточенно шел вперед, открывается пропасть света, куда достаточно броситься сломя голову, я бы отомстил всем, хотя на самом деле вовсе не был настолько дурным, чтобы об этом даже подумать. А я бы сумел это доказать. Но к чему торговаться, пусть даже и об этом? Существует столько, столько людей, своим отчаянием хвастающихся; пусть оно им служит. Для меня достаточно любить все, то есть любить с закрытыми глазами, перед которыми пляшут радуги в кругах, все более и более широких. Для меня достаточно руки, которую подает мне одно-единственное создание, наклонив голову, чтобы я не видел слез, пока с улыбкой, которая вот-вот явится и которой мне не узреть иначе, чем став безымянным всем, Бог месит манну, которой мне не вкусить.
LONG IS THE WAY TO TIPPERARY…[42]
© Перевод И. Безрукова
Введение к тому, что последует, дольше, чем уговоры змея, который вместо Евы принялся бы совращать самого себя. (И наверняка преуспел бы и в этом тоже.) Почему же, ну почему мне столь необходимо сказать еще кое-что? Не страшись сомнений, нагоняющих мысль, которую ты как раз сейчас оседлал, облюбовав ее. Именно потому, что она фаворитка, она обречена. Спрыгни и дай им растоптать себя. Они — провозвестники. Ты поймешь это, когда испустишь под их копытами последний вздох.
* * *Я сидел на краю зубчатой башни упсальского замка. Весь он был темно-красный; этот цвет называется sang de boeuf[43]. Я сидел на краю зубчатой башни упсальского замка. Болтал ногами. Большой, тяжелый ветер, многогранный настолько, что казался шаром, тихо уговаривал меня сзади, чтобы я упал. Я бы и рад был поддаться на эти уговоры, но пока не ощущал даже головокружения. Я болтал ногами, на мне были ботинки, крепкие ботинки, подбитые подковками, штукатурка сыпалась. Моря подо мной не было, а было, как ни странно, только озеро, да и то замерзшее. В Упсале стояла зима. Я был красивый, я не старился. Это все говорили. Там были девушки, они стояли под башней. Белокурые тугие косы, лазоревые сатиновые юбки с широкой черной каймой из плюша; их собрали здесь шведские фильмы. Я не видел их лиц и знал, почему: лиц у них не было вовсе; но думать об этом я не осмеливался. Зато я был красив, как тот, кому приказали не стареть и кто, Скрепя сердце, подчинился приказу. «Итак, я обречен на вечный голод», — говорил я сам себе. Я ощущал голод. Он был подобен ветру… С башни было далеко видно. Я видел длинную череду больших, освещенных, открытых настежь веранд. Это было парижское кафе «У двух обезьян»; я его знаю; то, что я видел, никоим образом на него не походило; однако же у меня не было причин сомневаться, что это именно оно. Это было кафе «У двух обезьян». Я был там сегодня, как и каждый день: между шестью и семью; как бы мне хотелось узнать, откуда я с такой точностью знаю, что сейчас между шестью и семью; но мне это не удавалось. Я заметил, что читаю «Le Temps». И понял, что именно поэтому сейчас где-то между шестью и семью. — Кафе «У двух обезьян» выглядит иначе, чем в действительности. Однако же все рядом и около несет налет истинности. Налет грубый, словно терка. Продавщица газет выкрасила свой киоск бычьей кровью. Я взглянул на нее; вместо юбки она носила шишковатый хвост, как у сирены; мысленно я невольно укорил ее за то, что она прислушивается к таким дурным советам. Но тут же пожалел, что вообще упрекаю ее в чем-то: бессмысленно. — Она, ничего не зная об этом внутреннем споре; улыбалась мне каким-то особенным образом. Я долго пытался понять, каким же это образом она мне улыбается. И счел, наконец, что так улыбаются хорошим знакомым. Но вопросы были запрещены; вот чем объяснялось, между прочим, то, что возле столика, за которым я сидел, росли низенькие елочки. С высоты упсальского замка, которого (возможно) и нет, видны «Две обезьяны», которые, возможно, и есть, оттуда легко глядится сквозь страны, моря, города, людей, а еще сквозь заросли виселиц, сквозь заросли низеньких елочек. Из городов меня привлек Амстердам. Не своей красотой, а тем, что лежал по левую руку; мне это показалось неестественным. Однако он меня не пленил; зато я весьма пленился зарослями низеньких елочек. Это я. Я очень некрасивый и дряхлею на глазах. Но каково сходство!
Свет был таким, каким он бывает летом в пять вечера, то есть таким, как в девять утра. Эти два света вообще-то одинаковы. Я вспомнил, что когда-то доказал это научным способом. Вижу как сегодня — и вдалеке: я уснул после обеда. Проснувшись, я захотел понять, откуда взялась во мне эта странная беспомощность, которая переполняла меня и которая напоминала молочное сияние опалов. Я знал, что это — последствие дневного времени. Я не мог сказать, девять ли утра сейчас или пять вечера; знал только, что либо то, либо другое, но наверняка одно из двух. Оба времени суток были одинаково убедительны, но я колебался. Я склонялся скорее к девяти, но и пять часов приводили кое-какие веские доводы. День выглядел подозрительным, как шкатулка с двойным дном. В конце концов я положил конец этому спору. Решил, что сейчас пять вечера, и надменно настаивал на своем решении, хотя что-то нашептывало мне, что ничего я не решил, ибо все есть так, как есть — и не иначе. Я полнился огромной гордостью. Но одновременно почувствовал вдруг некое внезапное истощение. Это было настоящее чувство физического истощения. Я знал, что это результат расставания с моей нерешительностью. Теперь, когда я избавился от нее, она казалась мне двоякопреломляющей призмой; возможно, даже многаждыпреломляющей. А спор между пятым и девятым часом напоминал театральную постановку, сопровождаемую музыкой, кудахтаньем кур, полетом ласточек и звяканьем подойников (доносящимся из коровника). Когда же я наконец принял решение, то на куриное кудахтанье точно опустилась вуаль, кривые, которые вычерчивали ласточки, стали не такими резкими, а подойники, звеневшие прежде, словно пастушьи колокольчики, внезапно как будто треснули.
Рощица, та самая рощица возле «Двух обезьян», в которой я сижу. Я некрасивый, я дряхлею, и с каким же равнодушием взирает на это красавец, полубог на зубчатой башне упсальского замка! «Такое сходство! — обращаюсь я просительно к Упсале. — По какому же праву ты отрекаешься от меня?» — «Сгинь! — говорю я Парижу. — По какому праву ты домогаешься меня?» — Произношу я это по-северному синими глазами, блуждая ими по бледному небосклону, черные же мои глаза стыдливо опускаются и слезятся, не ощущая боли. И когда глаза опускаются, они видят землю, устланную хвоей (ели опадают так, как будто бы тоже роняли слезы), видят, что люди, в том числе и родные, вовсе не то, чем они должны были бы стараться быть, что они не ворота, широко распахнутые навстречу всему иному, чем мы, но что они закрыты даже для нас, таких же, как эти люди, так что нам приходится оставаться снаружи.
Я читаю в газете, что только что закончено возведение того самого огромного купола. «Что это за купол?» — обращаюсь я к официанту, наливающему мне кофе. Он наливает его движением, которое явно пытается сообщить мне, что оно значит именно это… «Но что же?» — вопрошаю я, хотя в том уже нет нужды, ибо я понял, что движение это означало требование ко мне поднять голову. И я смотрю наверх, и действительно — над «Двумя обезьянами» вздымается беспредельный купол, можно даже сказать, что он беспредельнее, чем небеса, он молчит, молчит, но я-то знаю, что ему предназначено сообщить мне, почему люди должны быть воротами, распахнутыми навстречу всему отличному от них.