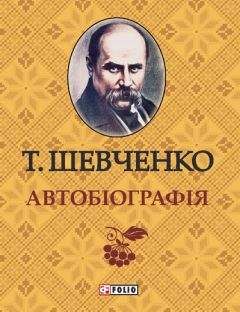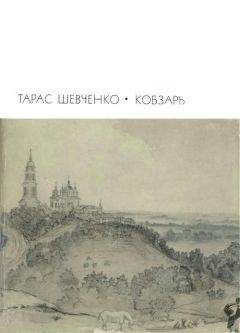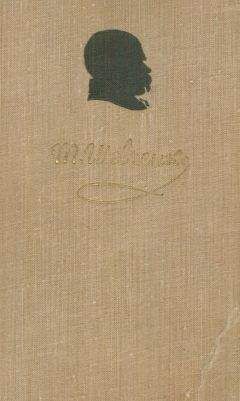Тарас Шевченко - Повести
В продолжение года получил я всего два письма от Савватия Сокиры, и те без всякого внутреннего содержания. Письма эти напоминали мне школьника, пишущего письмо к своим родителям по диктовке своего наставника. Впрочем, он сам чувствовал пустоту своих писем и извинялся тем, что материалов еще не накопилось для порядочного письма, говоря, что самая скучная и монотонная история — [история] самого счастливого народа.
Зато аккуратно, каждый месяц, снабжал меня длинными посланиями почтеннейший Степан Мартынович. Все происшествия, не имеющие никакого отношения к моим хуторянам, он описывал с усыпляющими подробностями, например: "Накануне воздвижения честного и животворящего креста господня у приятеля моего мещанина Карпа Зозули кобыла ожеребилась буланым жеребчиком, а у соседа нашего той же ночи вола украдено". Что же касалося собственно хуторян, тут плодовитости его не было пределов. Словом, он воображал себя душеприказчиком, а меня своим товарищем.
В одном из своих нелаконических писем описывает он появление Зосима на хуторе в самом жалком виде:
"Он постучался в двери моей школы, когда я уже совершил молитвы на сон грядущий и читал уже третий кондак акафиста пресвятой богородицы Одигитрии. Страх и трепет прийде на мя.
— Кто там? — воскликнул я во гневе.
— Отвори, — говорит, — Христа ради, Степан Мартынович!
Я чувствую, что называет меня по имени, взял каганец, пошел и отворил двери. Свет помрачился в очах моих, когда увидел я едва рубищем прикрытого входящего в школу блудного сына Зосю.
— Что, — говорит, — не узнал меня, дядюшка? А, каков я молодец?
— Очам своим не верю! — говорю я.
— Ну, так ощупай хорошенько и рукам поверь.
— Не верю! — проговорил я снова.
— Я, — говорит он, — твой бывший ученик, а теперь заслуженный вор, пьяница и привилегированный картежник — Зосим Сокирин. Ну, теперь знаешь?
— Знаю, — говорю я.
— А коли знаешь, так и толковать больше нечего: посылай за сивупле! Разумеешь? За водкой. Да поищи, нет ли где заплесневелого кныша от прошлогодней хавтуры83.
— Горилки, — говорю, — нет, и послать некого.
— Давай денег, я сам пойду.
Я дал ему на кварту денег, и он поспешно удалился. Достал я из коморы меду, хлеба, поставил на стол и хотел было продолжать акафист, но дух мой был возмущен и помышления мои омрачены были внезапным видением. Долго ходил я по школе, как в лесу неисходимом, а Зося не являлся. Свеча перед образом догорела, я другую засветил, и та уже наполовине, а Зоси нет как нет. — Господи, — думаю себе, — живый на небесех, сердцеведче наш! Не навождение ли сатанинское было надо мною? — И, прочитавши "Да воскреснет бог", я успокоился духом, прочитал снова акафист пресвятой богоматери Одигитрии и осенил крестным знамением двери, окна и комын, прочитал трижды "Да воскреснет бог" и отошел ко сну.
На другую ночь повторилося то же самое видение, на третью тоже, и я все ему даю на кварту горилки, и оно исчезает. Я сообщил о сем видении Прасковье Тарасовне, и она, бедная, изъявила желание провести ночь в моей школе, чтоб увидеть сие видение.
Ввечеру мы с Прасковьей Тарасовной вышли из хутора, как будто на проходку. Савватий Никифорович были в городе по долгу службы. Когда смерклося, мы пришли в школу. Я засветил свечу и достал Патерик.
Начал читать, утешения ради, житие преподобного мученика Моисея Угрина, за целомудрие пострадавшего от некия блудныя болярыни. И дочитал уже, как он, прекрасный юноша, в числе прочих плененных, по разделу достался на долю вдовы воеводыни, лицем зело красныя, а сердцем аспиду подобныя. Первая услышала стук в двери Прасковья Тарасовна, а потом уже я. Закрывши книгу, я пошел отворить дверь, и она вышла за мною, чтобы спрятаться в сенях и не быть видимою. Но когда я отворил дверь, с каганцом в руке, и она увидела лицо, омраченное развратом, своего Зоси, то вскрикнула и повалилася на землю, лишенная всякого чувствия. Он же рыкнул на меня, аки лев свирепый:
— А, подлец, христопродавец, ты меня продать хотел! Говори, кто здесь, а не то тут тебе и аминь!
И так сдавил мне горло, что я едва выговорил:
— Твоя маты.
— А, когда она только, то это хорошо. Мне давно с ней переговорить хотелось. Где она?
Я посветил ему каганцом и указал на распростертую на земле Прасковью Тарасовну. Он, взглянув на нее, проговорил:
— Ничего, пусть отдохнет, а мы с вами побеседуем. А что, исполнил ты мое приказание? Сегодня последний срок: деньги, или молися богу, говорит.
В это самое мгновение Прасковья Тарасовна застонала. Я вышел в сени, взял ее, бедную, на руки и, как дитя малое, положил на мое суровое ложе. Немного погодя она пришла в себя и проговорила:
— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!
— Я здесь, маменька, что прикажете?
Она взглянула на него и залилася горькими слезами. Он долго молча смотрел на ее горькие слезы и, наконец, проговорил:
— Вот что, маменька! Ни обмороки, ни слезы, ни молитвы, ни даже ваши проклятия не в силах поколебать меня: это всё вздор, чепуха! Одно, скажу вам, что меня может обратить на путь истинный, — это деньги, и только одни деньги. Дайте денег, и чем больше, тем лучше. Да и в самом деле, за что же я лишен своего наследства? Верно, по протекции вашей! Ну, теперь и раскошеливайся!
— Зосю мой! сыну мой единый! — проговорила она снова.
— Нечего тут «единый»! Я тебе такой же сын, как ты мне мать. Ну! поворачивайся, Степан Мартынович! Она тебе после отдаст!
Достал я из бодни всё, что у меня было, и передал ему в руки. Он взял деньги, пересчитал их и сказал:
— Больше нет?
— Нету, — говорю, — все до единого пенязя.
— Смотри, врать грешно, ты сам меня учил. Ну, на первый раз достаточно. Теперь марш на Пидварки! Теперь я им покажу, кто я таков! До свидания, маменька! Потрудитесь заплатить долг.
И с этим словом он вышел из школы. Прасковьи Тарасовна еще раз проговорила:
— Зосю мой! сыну мой единый! — и упала на постель аки мертвая.
Оставя ее в беспамятстве, я пошел на хутор дать знать Савватию Никифоровичу о случившемся и просить помощи, но он, возвратясь из города, лег спать, того не зная, что матери дома нету; он думал, что она тоже спит. Когда я возвратился в школу, Прасковья Тарасовна уже сидела на кровати и тяжко плакала. Я не рассудил утешать ее в горести, а, засветивши свечу перед образом, начал читать акафист божией матери Одигитрии. Она тоже встала на ноги и, горько плача, молилася. По акафисте прочел я еще канон той же божией матери Одигитрии, а потом молитвы на сон грядущий и с коленопреклонением прочел молитву "Господи, не лиши меня небесных твоих благ". По отпуске я молча вышел из школы, и когда возвратился, то она уже спала сном праведницы на моем старческом одре. Я тихо раскрыл Ефрема Сирина — и, охраняя сон праведницы, сидел я за книгой до самого утра.
Поутру пошли мы на хутор, и я рассказал Савватию Никифоровичу всё случившееся вночи. И на рассказ мой он только заплакал.
Ввечеру того же дня получил он предписание от городничего произвести медицинское освидетельствование, по долгу уездного врача, над обезображенным телом, найденным в пустке покрытки N. на Пидварках.
Прочитавши сие предписание, он молча посмотрел на Прасковью Тарасовну, а та залилась слезами и проговорила:
— Зосю мой! сыну мой единый!
Между прочими мелкими событиями на хуторе сообщил мне почтенный мой сотоварищ и это довольно крупное событие, но сам Савватий не писал мне об этом ни слова, ни даже о том, что он занимает теперь место уездного врача в г. Переяславе.
Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестися мыслию на берег широкого Днепра и сесть где-нибудь, хоть, например, в Трахтемирове, под тенью развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном фоне этой широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы божий, и один из них ярче всех сверкает своею золотою головою; это собор, воздвигнутый Мазепою. И много, много разных событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму.
Но чаще всего я лелею мое старческое воображение картинами золотоглавого, садами повитого и тополями увенчанного Киева. И после светлого, непорочного восторга, навеянного созерцанием красоты твоей неувядающей, упадет на мое осиротевшее старое сердце тоска, и я переношуся в века давноминувшие и вижу его, седовласого, маститого, кроткого старца с писаною большою книгою в руках, проповедующего изумленным дикарям своим и кровожадным и корыстолюбивым поклонникам Одина84. Как ты прекрасен был в этой ризе кротости и любомудрия, святый мой и незабвенный старче!
И мы уразумели твои кроткие глаголы и тебя, как старого и ненужного учителя, не выгнали и не забыли, а одели тебя, как Горыню-богатыря, в броню крепкую. Сначала осуровили твое кроткое сердце усобицами, кровосмешениями и братоубийствами, сделали из тебя настоящего варяга и потом уже надели броню и поставили сторожить порабощенное племя и пришельцами поруганную, самим богом завещанную тебе святыню.