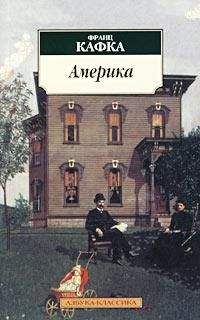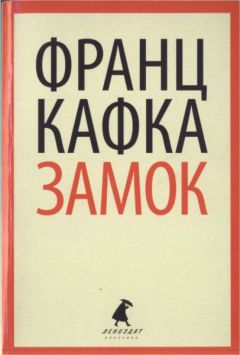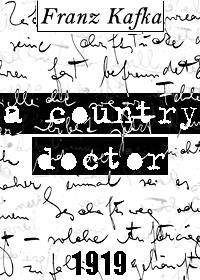Франц Кафка - Замок
К. быстро переменил тему; объяснение не должно было произойти так вдруг и начаться с самого худшего, с самого для него невыгодного.
— Я думал, ты в пивной, — сказал он.
Фрида удивленно посмотрела на него и потом мягко провела той рукой, которая у нее была свободна, по его лбу и по щеке. Казалось, она забыла черты его лица и хотела таким способом снова вызвать их в памяти; в затуманенном взгляде ее глаз тоже было выражение напряженного вспоминания.
— Меня снова приняли в пивную, — медленно проговорила она так, словно то, что она говорила, было неважно, но за этими словами она вела еще один разговор с К., и он был важнее. — Эта работа не для меня, этим может заниматься и любая другая, если она умеет стелить постель и делать приветливое лицо и не боится приставания гостей, а даже их вызывает, — любая такая может работать в комнатах. Но в пивной — там все немножко не так. А меня сразу же снова приняли в пивную, хотя я тогда не очень почетно оттуда ушла; правда, у меня теперь протекция. Но хозяин был счастлив, что у меня протекция: ему легко было снова меня принять. Им даже пришлось уговаривать меня принять эту должность, вот как было; если ты задумаешься, о чем мне напоминает пивная, ты это поймешь. В конце концов я приняла должность. Здесь я только временно. Пепи попросила не позорить ее, не заставлять сразу уходить из пивной, и, так как она все-таки старалась и все, что могла, выполняла — насколько ей позволяли способности, мы дали ей срок двадцать четыре часа.
— Замечательно вы все устроили, — похвалил К., — только когда-то ты ради меня ушла из пивной, а теперь, когда у нас скоро свадьба, ты снова туда возвращаешься?
— Свадьбы не будет, — проговорила Фрида.
— Потому что я был неверен? — спросил К.
Фрида кивнула.
— Послушай, Фрида, — сказал К., — об этой так называемой неверности мы уже не один раз говорили, и каждый раз ты в конце концов вынуждена была признать, что это было несправедливое подозрение. Но с тех пор с моей стороны ничего не изменилось, все осталось так же невинно, как было, и иначе и не может быть. Следовательно, должно было что-то измениться с твоей стороны — в результате чьих-то нашептываний или чего-то еще. В любом случае ты поступаешь со мной несправедливо, потому что ведь как обстоит с этими двумя девушками? Одна из них, брюнетка, — мне почти стыдно вот так, в подробностях оправдываться, но ты меня вынуждаешь, — так вот, брюнетка мне неприятна, по-видимому, не меньше, чем тебе; когда я хоть как-то могу держаться от нее в стороне, я это делаю, да она к тому же и облегчает это: нельзя быть скромней, чем она.
— Да, — выкрикнула Фрида, слова вырывались у нее словно бы против ее воли; К. был рад, что она так отвлеклась, она была не такой, какой хотела быть, — считай ее скромной, самую бесстыжую из всех ты называешь скромной, и ты действительно так думаешь, как ни трудно в это поверить, ты не притворяешься, я это знаю. Хозяйка предмостного трактира говорит о тебе: «Я его терпеть не могу, но и бросить тоже не могу, ведь когда видишь маленького ребенка, который, еще не умея как следует ходить, отваживается заходить далеко, тоже невозможно сдержаться и приходится вмешиваться».
— Прислушайся на этот раз к ее поучениям, — сказал К., улыбаясь, — но эту девушку — скромная она или бесстыжая — мы можем оставить в покое, я не хочу о ней слышать.
— Но почему ты называешь ее скромной? — упрямо спросила Фрида; К. расценил такую заинтересованность как благоприятный для него знак. — Ты это проверил или ты хочешь этим принизить другую?
— Ни то ни другое, — ответил К., — я называю ее скромной из благодарности, потому что она вела себя так, что мне было легко не замечать ее, ведь если бы она хоть пару раз со мной заговорила, я уже не решился бы снова пойти туда, а это было бы для меня большой потерей, потому что я должен ходить туда ради нашего с тобой будущего, как ты знаешь. И поэтому же я должен разговаривать и с другой девушкой, которую я хоть и ценю за ее трудолюбие, осмотрительность и самоотверженность, но о которой уже никто не сможет утверждать, что она обольстительна.
— Слуги придерживаются другого мнения, — заметила Фрида.
— Об этом, так же как, наверное, и о многом другом, — сказал К. — И значит, по-твоему, если они самцы, то и я неверен?
Фрида промолчала и не возразила, когда К. забрал у нее поднос, поставил на пол, взял ее под руку и начал медленно ходить с ней взад-вперед на маленьком пространстве.
— Тебе неизвестно, что такое верность, — сказала она, как бы защищаясь от его близости. — И что бы там ни было у тебя с этими девками, это ведь не самое главное; то, что ты вообще ходишь в эту семью и возвращаешься с запахом их комнаты в одежде, — уже невыносимый позор для меня. И ты убегаешь, ничего не говоря, из школы, и даже остаешься у них на полночи. А когда за тобой приходят, ты выпускаешь этих девок, и они тебя заслоняют, прямо грудью заслоняют, особенно эта несравненная скромница. Ты тайком крадешься из их дома — еще, пожалуй, для того, чтобы не повредить репутации этих девок, репутации таких девок! Нет, об этом мы больше не будем говорить!
— Об этом — нет, — согласился К., — кое о чем другом, Фрида. Об этом и говорить-то нечего. Почему я должен туда ходить, ты знаешь. Мне это нелегко, но я пересиливаю себя. Тебе бы не следовало еще больше затруднять мне это. Сегодня я думал только на минутку сходить туда и узнать, не пришел ли наконец Барнабас, который уже давно должен был принести мне одно важное сообщение. Его еще не было, но он, как меня уверили — и это было похоже на правду, — должен был очень скоро прийти. Его могли бы послать вслед за мной в школу, но я этого не хотел, чтобы не обременять тебя его присутствием. Часы шли, а он, к сожалению, не приходил. Зато пришел кое-кто другой, которого я ненавижу. Мне совсем не хотелось, чтобы он меня выслеживал, и поэтому я пошел через соседский сад, но я не собирался прятаться от него, а открыто пошел потом к нему на улице с таким — признаюсь в этом — очень гибким ивовым прутом. Это — все, и, таким образом, об этом больше говорить нечего, но вот кое о чем другом… как там все-таки обстоит дело с этими помощниками, упоминать о которых мне почти так же противно, как тебе — о той семье. Сравни твои с ними отношения с тем, как я вел себя в этой семье. Я понимаю твое отвращение к этой семье и готов его разделить. Я к ним хожу только ради дела, иногда мне даже кажется, что я поступаю с ними нехорошо, использую их. А взять тебя с этими помощниками!
Ты даже не пыталась отрицать, что они тебя преследуют, и призналась, что тебя к ним тянет. А я не рассердился на тебя за это, я понял, что тут замешаны такие силы, с которыми тебе не справиться, я был счастлив уже тем, что ты, по крайней мере, сопротивляешься, я помогал тебе защищаться, — и только потому, что я на несколько часов отлучился, надеясь на твою верность и, конечно, на то, что дом надежно заперт и помощники окончательно изгнаны (боюсь, что я все еще недооценивал их), — только потому, что я на несколько часов отлучился, и этот Иеремия, между нами говоря, не очень здоровый, потрепанный парень, имел наглость подойти к окну, — только поэтому, Фрида, я должен тебя потерять и слышать вместо приветствия «свадьбы не будет»? Ведь это, в сущности, я мог бы делать упреки, а я их не делаю, все еще не делаю.
И снова К. показалось, что хорошо будет немного отвлечь Фриду, и он попросил ее принести что-нибудь поесть, потому что он с самого полудня ничего не ел. Фрида, тоже явно испытывая облегчение от этой просьбы, кивнула и побежала что-нибудь принести, но не по коридору, не туда, где, как предполагал К., была кухня, а вбок, на несколько ступенек вниз. Вскоре она принесла тарелку с нарезанной колбасой и бутылку вина, но это, по-видимому, были остатки чьей-то еды: чтобы это было незаметно, отдельные куски были наскоро снова разложены, лежала даже забытая колбасная кожура, а бутылка была на три четверти пуста. Однако К. ничего на это не сказал и с хорошим аппетитом принялся за еду.
— Ты была на кухне? — спросил он.
— Нет, в моей комнате, — ответила она, — у меня здесь внизу комната.
— Ты бы лучше взяла меня с собой, — попросил К. — Я спущусь туда, хоть поем сидя.
— Я принесу тебе стул, — сказала Фрида и уже хотела идти.
— Спасибо, — поблагодарил К. и удержал ее, — я не буду спускаться, и стул мне уже не нужен.
Фрида, низко опустив голову, пыталась освободиться от его руки и кусала губы.
— Ну да, он внизу, — сказала она. — Ты ожидал чего-то другого? Он лежит в моей кровати, он простудился на морозе, его знобит, он почти не ел. По существу, все это твоя вина: если бы ты не выгнал помощников и не бегал бы в эту семью, мы сейчас могли бы спокойно сидеть в школе. Ты сам разрушил наше счастье. Ты думаешь, Иеремия, пока он был на службе, посмел бы меня увести? Тогда ты вообще ничего не понимаешь в здешних порядках. Он хотел ко мне, он мучился, он подстерегал меня, но это была только игра — как голодный пес играет, но все-таки не смеет прыгнуть на стол. И точно так же я. Меня тянуло к нему, он мой товарищ по детским играм (мы с ним вместе играли на склонах замковой горы — чудное время, ты никогда не спрашивал меня о моем прошлом), но все это ничего не решало, пока Иеремию связывала служба, потому что ведь я, как твоя будущая жена, не забывала своего долга. Но потом ты выгнал помощников и еще хвастался этим, как будто сделал что-то для меня; впрочем, в каком-то определенном смысле это так. С Артуром ты достиг того, чего хотел — разумеется, только временно, — он нежен, у него нет не боящейся никаких трудностей страсти Иеремии, и потом ты же тогда ночью ударом кулака (это был удар и по нашему счастью) почти сломал его, он убежал в Замок жаловаться, и если даже он скоро и возвратится, все-таки сейчас его нет. А Иеремия здесь. На службе он пугается, когда господин глазом моргнет, но вне службы он ничего не боится. Он пришел и взял меня; покинутая тобой, оказавшись в его руках, в руках старого друга, я не могла устоять. Я не открывала дверей школы — он разбил окно и вытащил меня. Мы убежали сюда; хозяин ценит его, и для гостей тоже не может быть ничего лучше, чем такой коридорный, так что нас приняли; не он у меня живет, а это наша общая комната.