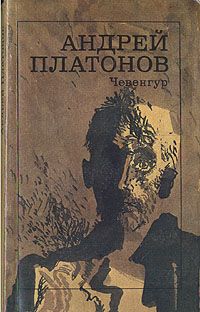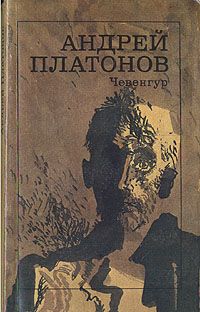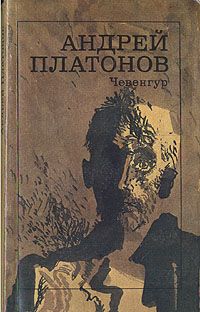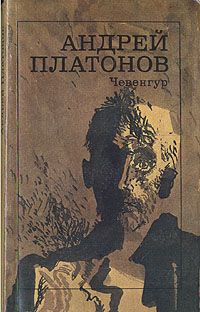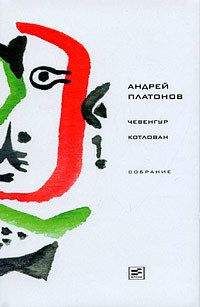Андрей Платонов - Чевенгур
— открылся Кирей. — Я спать люблю на веселом месте, где огонь горит… Мне хоть муха, а пусть жужжит…
— Ну, ступай и ходи без сна по околице, — сказал Чепурный, — а мы Жеева пойдем выручать… Целого товарища бросили из-за твоего сигнала…
Выйдя на конец Чевенгура, семеро товарищей легли на степь и послушали — не скрежещет ли что вдалеке и не шагает ли обратно Жеев, или он уже мертвым лежит до утра. Кирей дошел после и сказал всем лежащим:
— Вы легли, а там человек погибает, я бы сам за ним побег, да город стерегу…
Кеша отозвался Кирею, что нельзя пролетариат променять на одного Жеева — здесь банды могут город сжечь, если все погонятся спасать одну личность Жеева.
— Город я потушу, — пообещал Кирей, — тут колодцы есть. А Жеев, может, уж без души лежит. Чего ж вам пролетария ждать, когда его нет, а Жеев был.
Чепурный и Кеша вскочили и без сожаления о Чевенгуре бросились в степную продолжающуюся ночь, и остальные пять товарищей не отставали от них.
Кирей зашел за плетень, подстелил под голову лопух и лег слушать врага до утра.
Облака немного осели на края земли, небо прояснилось посредине — и Кирей глядел на звезду, она на него, чтобы было нескучно. Все большевики вышли из Чевенгура, один Кирей лежал, окруженный степью, как империей, и думал: живу я и живу — а чего живу? А наверно, чтоб было мне строго хорошо — вся же революция обо мне заботится, поневоле выйдет приятно… Сейчас только плохо; Прошка говорил — это прогресс покуда не кончился, а потом сразу откроется счастье в пустоте… Чего звезда: горит и горит! Ей-то чего надо? Хоть бы упала, я бы посмотрел. Нет, не упадет, ее там наука вместо бога держит… Хоть бы утро наставало, лежишь тут один и держишь весь коммунизм — выйди я сейчас из Чевенгура, и коммунизм отсюда уйдет, а может, и останется где-нибудь… Ни то этот коммунизм — дома, ни то одни большевики!
На шею Кирея что-то капнуло и сразу высохло.
— Капает, — чувствовал Кирей. — А откуда капает, когда туч нету? Стало быть, там что-нибудь скопляется и летит куда попало. Ну, капай в рот. — И Кирей открыл гортань, но туда ничего больше не падало. — Тогда капай возле, — сказал Кирей, показывая небу на соседний лопух, — а меня не трожь, дай мне покой, я сегодня от жизни чего-то устал…
Кирей знал, что враг должен где-нибудь быть, но не чувствовал его в бедной непаханой степи, тем более — в очищенном пролетарском городе, — и уснул со спокойствием прочного победителя.
Чепурный же, наоборот, боялся сна в эти первые пролетарские ночи и рад был идти сейчас даже на врага, лишь бы не мучиться стыдом и страхом перед наступившим коммунизмом, а действовать дальше со всеми товарищами. И Чепурный шел ночною степью в глухоту отчужденного пространства, изнемогая от своего бессознательного сердца, чтобы настигнуть усталого бездомовного врага и лишить его остуженное ветром тело последней теплоты.
— Стреляет, гад, в общей тишине, — бормотал и сердился Чепурный. — Не дает нам жизни начать!
Глаза большевиков, привыкшие за гражданскую войну к полуночной тьме, заметили вдалеке черное постороннее тело, словно лежал на земле длинный отесанный камень либо плита. Степь была здесь ровная, как озерная вода, и постороннее тело не принадлежало местной земле. Чепурный и все шествовавшие большевики сдержали шаг, определяя расстояние до того неподвижного чужого предмета. Но расстояние было неизвестным, то черное тело лежало словно за пропастью — ночной бурьян превращал мрак во влекущуюся волну и тем уничтожал точность глазомера. Тогда большевики побежали вперед, держа постоянные револьверы в руках.
Черное правильное тело заскрежетало — и по звуку было слышно, что оно близко, потому что дробились мелкие меловые камни и шуршала верхняя земляная корка. Большевики стали на месте от любопытства и опустили револьверы.
— Это упавшая звезда — теперь ясно! — сказал Чепурный, не чуя горения своего сердца от долгого спешного хода. — Мы возьмем ее в Чевенгур и обтешем на пять концов. Это не враг, это к нам наука прилетела в коммунизм…
Чепурный сел от радости, что к коммунизму и звезды влекутся. Тело упавшей звезды перестало скрежетать и двигаться.
— Теперь жди любого блага, — объяснял всем Чепурный. — Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, — коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление!
Чепурный лег на землю, забыл про ночь, опасность и пустой Чевенгур и вспомнил то, чего он никогда не вспоминал, — жену. Но под ним была степь, а не жена, и Чепурный встал на ноги.
— А может, это какая-нибудь помощь или машина Интернационала, — проговорил Кеша. — Может, это чугунный кругляк, чтоб давить самокатом буржуев… Раз мы здесь воюем, то Интернационал тот о нас помнит…
Петр Варфоломеевич Вековой, наиболее пожилой большевик, снял соломенную шляпу с головы и ясно видел неизвестное тело, только не мог вспомнить, что это такое. От привычки пастушьей жизни он мог ночью узнавать птицу на лету и видел породу дерева за несколько верст; его чувства находились как бы впереди его тела и давали знать ему о любых событиях без тесного приближения к ним.
— Не иначе это бак с сахарного завода, — произнес Вековой, пока без доверия к самому себе. — Бак и есть, от него же камушки хрустели; это крутьевские мужики его волокли, да не доволокли… Тяжесть сильней жадности оказалась — его бы катить надо, а они волокли…
Земля опять захрустела — бак тихо начал поворачиваться и катиться в сторону большевиков. Обманутый Чепурный первым добежал до движущегося бака и выстрелил в него с десяти шагов, отчего железная ржавь обдала ему лицо. Но бак катился на Чепурного и прочих навалом — и большевики начали отступать от него медленным шагом. Отчего двигался бак — неизвестно, потому что он скрежетал по сухой почве своим весом и не давал догадке Чепурного сосредоточиться на нем, а ночь, склонившаяся к утру, лишила степь последней слабости того света, что раньше исходил от редких зенитных звезд.
Бак замедлился и начал покачиваться на месте, беря какой-то сопротивляющийся земляной холмик, а затем и совсем стих в покое. Чепурный, не думая, хотел что-то сказать и не мог этого успеть, услышав песню, начатую усталым грустным голосом женщины:
Приснилась мне в озере рыбка, Что рыбкой я была…
Плыла я далеко-далеко, Была я жива и мала…
И песня никак не кончилась, хотя большевики были согласны ее слушать дальше и стояли еще долгое время в жадном ожидании голоса и песни. Песня не продолжалась, и бак не шевелился — наверное, существо, поющее внутри железа, утомилось и легло вниз, забыв слова и музыку.
— Слушаете? — сразу спросил Жеев, еще не показавшись из-за бака: иначе бы его могли убить, как внезапного врага.
— Слушаем, — ответил Чепурный. — А еще она петь не будет?
— Нет, — сообщил Жеев. — Она три раза уже пела. Я их уже который час пасу хожу. Они там толкают внутри, а бак поворачивается. Раз стрелял в бак, да это напрасно.
— А кто же там такой? — спросил Кеша.
— Неизвестно, — объяснил Жеев. — Какая-нибудь полоумная буржуйка с братом — до вас они там целовались, а потом брат ее отчего-то умер, и она одна запела…
— То-то она рыбкой захотела быть, — догадался Чепурный.
— Ей, стало быть, охота жить сначала! Скажи пожалуйста!
— Это непременно, — подтвердил Жеев.
— Что ж нам теперь делать? — рассуждал со всеми товарищами Чепурный. — У нее голос трогательный, а в Чевенгуре искусства нету… Либо ее вытащить, чтоб она отживела?
— Нет, — отверг Жеев. — Она слишком теперь слабосильная и еще — полоумная… Питать ее тоже нечем — она буржуйка. Будь бы она баба, а то так — одно дыханье пережитка… Нам нужно сочувствие, а не искусство.
— Как будем? — спросил Чепурный всех.
Все молчали, ибо взять буржуйку или бросить ее — не имело никакой полезной разницы.
— Тогда — бак в лог, и тронемся обратно — мыть полы, — разрешил загадку Чепурный. — А то Прокофий теперь далеко уехал. Завтра может пролетариат явиться.
Восьмеро большевиков уперлись руками в бак и покатили его прочь, в обратную от Чевенгура даль, где через версту начиналось понижение земли, кончавшееся обрывом оврага. Во все время движения бака внутри его каталась какая-то мягкая начинка, но большевики спешили, давали баку ускорение и не прислушивались к замолкшей полоумной буржуйке. Скоро бак пошел своим ходом — начался степной уклон к оврагу, и большевики остановились от своей работы.
— Это котел с сахарного завода, — оправдал свою память Вековой, — а я все думал, что это такое за машина.
— Ага, — сказал Чепурный. — Стало быть, это был котел, ну, пускай вертится — без него обойдемся…
— А я думал, это так себе, мертвый кругляк, — произнес Кеша. — А это, оказывается, котел!
— Котел, — сказал Вековой. — Клепаная вещь.